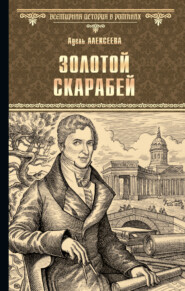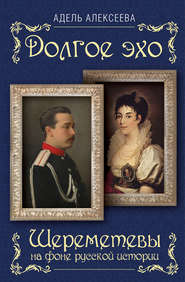По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опасный менуэт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец читал ей книги, воспитывал, а она забивалась в угол и молчала. Что происходило в маленькой головке – никто не знал. Как тут не вспомнить слова одного умного человека, который писал: «Положите на одну чашу весов все изречения великих мудрецов, а на другую – бессознательную мудрость ребенка, и вы увидите, что все высказанное Платоном, Шопенгауэром, Марком Аврелием и Паскалем ни на йоту не перевесит великих сокровищ бессознательного, ибо ребенок, который молчит, в тысячу раз мудрее Марка Аврелия, когда тот говорит».
К сожалению, отец Элизабет рано скончался. Но из молчаливого упрямого птенца уже вылуплялась свободолюбивая певчая птичка. Она продолжала учиться и непрестанно рисовала. Виже-Лебрен говорила о себе, что страсть рисовать родилась вместе с ней и она никогда не ослабевала. Даже наоборот, с годами она делалась еще сильнее.
В двадцать один год девушка стремительно вышла замуж, несмотря на протесты родных. Теперь ее звонкий голос уже раздавался на улице Клери, одной из самых очаровательных улиц Парижа, но похоже, что очень скоро муж и жена – увы! – стали вести друг от друга независимый образ жизни. Соединяла их лишь дочь.
Что касается наших путешественников, то они появятся в Париже еще раз, возобновят знакомства с художниками – вот тогда-то и окажется записка Виже-Лебрен в руках Хемницера. Впрочем, до встречи ее с Михаилом Богдановым еще не близко…
А пока… Как провели конец того вечера наши друзья Львов и Хемницер? Последний отправился на свидание с мадам.
Львов же широко шагал по красивейшему из городов – Парижу, подгоняемый луной, похожей на серебристое блюдо. Ночь была поэтична и уносила его к Машеньке… Он твердил: «Мне несносен целый свет – Машеньки со мною нет». Вспоминал их последнее свидание на Островах. Солнечные лучи устремлялись за горизонт. Как всегда при человеке, любезном твоему сердцу, лучи казались еще ярче и красочнее. Нежные чувствования затопляли его сердце, а закат навевал, как ни странно, настроение скоротечности жизни. Он размышлял и говорил, говорил, и она не спускала с него восторженных зеленых глаз. Пышные каштановые волосы покрывали ее плечи, оливкового цвета лента стягивала талию, и такая лента была в волосах.
Не удержавшись, он обнял ее и прижал к груди. Она затрепетала в руках его, словно птичка… А потом в который уже раз оба заговорили о будущем.
– Машенька, душа моя, только с тобой одной могу я связать свою жизнь. Если не отдаст мне тебя твой батюшка – уйду в монастырь или порешу жизнь!
– Что ты, Львовинька, желанный мой, – восклицала она. – Да разве можно такое говорить? Ведь и мне без тебя жизни нет. Авось смилостивится когда-нибудь батюшка.
– Когда же? Нет сил ожидать… Богатство твое – помеха, и не надо мне того богатства! Любовь – лучшее из богатств!.. Ах, как несправедливо устроен мир – верно говорят философы.
– Уж не знаю, что говорят твои философы, только и мне батюшкиного богатства не надобно, ежели нет тебя со мною рядом. Не терзай мою душу, лучше пожалей бедную свою Машу.
– Любишь ли ты меня? – спросил он.
– И рада бы не любить, – отвечала она, – да твой пригожий вид, ясный ум да сердце привораживают…
У него уж мелькала мысль о том, чтобы обвенчаться с Машей тайно, но высказать ее он не решился. И опять крепко, словно в отчаянии, обнял ее и стал миловать, приголубливать, и она не противилась… В голове его промелькнули стихи, сочинение, кажется, того вечера:
Воздух кажется светлее,
Все милее в тех местах,
Вид живее на цветах,
Пенье птичек веселее
И приятней шум дождя
Там, где Машенька моя…
В возвышенном состоянии ума возвращался парижской ночью Николай Александрович в гостиницу, где жили они с Хемницером. Делиться своими чувствами он не собирался, ибо был скрытен, особливо если дело касалось Машеньки. Он знал, что друг его, Иван, тоже влюблен в Машу.
Львов застал Хемницера сидящим посреди комнаты в полной растерянности.
– Что с тобой, Иван?
– Что со мной? – тупо глядя перед собой, повторил тот. – Я сам не знаю… Николаша, как же так? – Близорукие глаза, похоже, наполнились слезами.
– Что именно? – строго спросил Львов.
– Она пригласила меня погулять… Рассказывала, как несчастна в семейной жизни, как бедна… Мне она показалась умной, ведь она читала стихи Торквато Тассо!
– Что ты хочешь сказать, друг мой?
– Мы даже целовались. Я обнимал ее, она сама обнимала меня…
– Да, да, и что же дальше? – Львов был уже в нетерпении.
– Дальше… Господь наказал меня, должно быть, за то, что… я изменил Машеньке.
– Что-о-о!
– Не сердись, Николаша… Когда я вернулся сюда, в кармане не оказалось кошелька с деньгами. Неужели это она?
– А ты думал, она ангел небесный? Поздравляю тебя, наивный баснописец. Немец, а простофиля похуже русских.
Николай Александрович достал табак и раскурил трубку.
Это было незадолго до отъезда их из Парижа: пора, пора домой!
Тебя, любезная, я обожаю!
У сенатора Алексея Афанасьевича Дьякова было пять дочерей. Из них трое уже выходили в свет, а младшенькие еще пребывали в отроческом возрасте.
Все они с нетерпением ждали возвращения из-за границы Львова с Хемницером. Михаил появился в доме Бакуниных в Петербурге как раз в день приезда. Увидав его, Марья Алексеевна радушно пригласила юношу непременно приходить завтра. Он явился, преодолевая робость, и был так радушно встречен, что забыл о ней, попав в компанию этих необыкновенных людей. И уже улыбался, хлопал глазами, не зная, кому отдать предпочтение. Капнисту ли, который, театрально вставая на колени перед сестрами, воодушевленно декламировал: «Тебя, любезная, я обожаю!» Или Хемницеру, честнейшему, наивному, скромному выходцу из немцев? Или Львову с его цицероновым даром преславно говорить и делать, подобно Цезарю, сразу множество дел?
У Львова была неистребимая жажда знаний, которыми он щедро делился. Широко вышагивая по комнате, с увлечением рассказывал о европейских впечатлениях.
– Ах, Рафаэль! Божественный талант! Богоматерь в сокрушенном отчаянье по правую сторону, Мария Магдалина – по левую, а лик у Богоматери таков, что, глядя на нее, так и хочется расплакаться. – Взглянул на Ивана Ивановича и добавил: – Некоторые так и делали. Наш баснописец забыл свое ремесло и предался слезотечению с такой страстью, что пришлось мне достать платок для носа.
– Николя, не надо бы признаваться в том при девицах, – буркнул Хемницер.
Но Львов потешал слушателей. Он продолжал:
– Если Рафаэль – это чудо, то Рубенс, милые сударыни, это, это… Представьте себе: женские фигуры предородные, титьки круглые, фунтов по шесть, фигуры стоят спокойно. Но тела их кажутся падучею болезнью переломлены… Одним словом, Рубенс – фламандская баня, исполненная непристойностями. Там иной сатир сажает себе нимфу, другой ухватил ее за то место, где никакой хватки нет. Если кто хочет полюбоваться на жену Рубенсову, то, несмотря на то, что она вся голая, гляди только на голову. Кажется, что ревнивая кисть ее супруга собрала все пороки женского тела для того, чтобы никто ею не воспользовался.
Девушки смущались, но не могли удержаться от смеха.
– Так ли все, Львовинька? – угомонившись, спросила Маша. – Уж очень вы строги к господину Рубенсу.
– Да если бы вы, милые сударыни, взглянули на те картины, а потом бы посмотрели на себя в зеркало, то уж наверное согласились бы со мной. Вот и Иван не станет со мной спорить, правда? – Он обернулся и совсем по-мальчишечьи подскочил и взлохматил кудрявую густую шевелюру Хемницера.
– Не надо, не надо, они и так у меня непослушные, – запротестовал тот.
– В Париже, – вновь воодушевляясь, продолжал Львов, – одна новость заглушает другую, новая песня – старую. Вспыхнет мода – и как мыльный пузырь тут же лопнет! Французы ко всему горячи и ко всему в то же время равнодушны. Новости мгновенно разносятся по Парижу и мгновенно надоедают. То они хвалят Вольтера, то Дидро, но более всего поклоняются Жан-Жаку Руссо.
– Не говори так, Николаша, – тихо заметил Хемницер. – Руссо – великий человек.
– Иван так мечтал о встрече с Руссо, так жаждал насладиться сим необычайным зрелищем, что просто извел меня: где да где мы его увидим? В конце концов пришлось мне показать на одного гуляющего в Пале-Рояле человека. Вот он, твой Руссо! Я пошутил, то был Строганов, но – что делать?
Толстые губы Хемницера надулись, как у младенца.
– Не шути так, Львовинька.
К сожалению, отец Элизабет рано скончался. Но из молчаливого упрямого птенца уже вылуплялась свободолюбивая певчая птичка. Она продолжала учиться и непрестанно рисовала. Виже-Лебрен говорила о себе, что страсть рисовать родилась вместе с ней и она никогда не ослабевала. Даже наоборот, с годами она делалась еще сильнее.
В двадцать один год девушка стремительно вышла замуж, несмотря на протесты родных. Теперь ее звонкий голос уже раздавался на улице Клери, одной из самых очаровательных улиц Парижа, но похоже, что очень скоро муж и жена – увы! – стали вести друг от друга независимый образ жизни. Соединяла их лишь дочь.
Что касается наших путешественников, то они появятся в Париже еще раз, возобновят знакомства с художниками – вот тогда-то и окажется записка Виже-Лебрен в руках Хемницера. Впрочем, до встречи ее с Михаилом Богдановым еще не близко…
А пока… Как провели конец того вечера наши друзья Львов и Хемницер? Последний отправился на свидание с мадам.
Львов же широко шагал по красивейшему из городов – Парижу, подгоняемый луной, похожей на серебристое блюдо. Ночь была поэтична и уносила его к Машеньке… Он твердил: «Мне несносен целый свет – Машеньки со мною нет». Вспоминал их последнее свидание на Островах. Солнечные лучи устремлялись за горизонт. Как всегда при человеке, любезном твоему сердцу, лучи казались еще ярче и красочнее. Нежные чувствования затопляли его сердце, а закат навевал, как ни странно, настроение скоротечности жизни. Он размышлял и говорил, говорил, и она не спускала с него восторженных зеленых глаз. Пышные каштановые волосы покрывали ее плечи, оливкового цвета лента стягивала талию, и такая лента была в волосах.
Не удержавшись, он обнял ее и прижал к груди. Она затрепетала в руках его, словно птичка… А потом в который уже раз оба заговорили о будущем.
– Машенька, душа моя, только с тобой одной могу я связать свою жизнь. Если не отдаст мне тебя твой батюшка – уйду в монастырь или порешу жизнь!
– Что ты, Львовинька, желанный мой, – восклицала она. – Да разве можно такое говорить? Ведь и мне без тебя жизни нет. Авось смилостивится когда-нибудь батюшка.
– Когда же? Нет сил ожидать… Богатство твое – помеха, и не надо мне того богатства! Любовь – лучшее из богатств!.. Ах, как несправедливо устроен мир – верно говорят философы.
– Уж не знаю, что говорят твои философы, только и мне батюшкиного богатства не надобно, ежели нет тебя со мною рядом. Не терзай мою душу, лучше пожалей бедную свою Машу.
– Любишь ли ты меня? – спросил он.
– И рада бы не любить, – отвечала она, – да твой пригожий вид, ясный ум да сердце привораживают…
У него уж мелькала мысль о том, чтобы обвенчаться с Машей тайно, но высказать ее он не решился. И опять крепко, словно в отчаянии, обнял ее и стал миловать, приголубливать, и она не противилась… В голове его промелькнули стихи, сочинение, кажется, того вечера:
Воздух кажется светлее,
Все милее в тех местах,
Вид живее на цветах,
Пенье птичек веселее
И приятней шум дождя
Там, где Машенька моя…
В возвышенном состоянии ума возвращался парижской ночью Николай Александрович в гостиницу, где жили они с Хемницером. Делиться своими чувствами он не собирался, ибо был скрытен, особливо если дело касалось Машеньки. Он знал, что друг его, Иван, тоже влюблен в Машу.
Львов застал Хемницера сидящим посреди комнаты в полной растерянности.
– Что с тобой, Иван?
– Что со мной? – тупо глядя перед собой, повторил тот. – Я сам не знаю… Николаша, как же так? – Близорукие глаза, похоже, наполнились слезами.
– Что именно? – строго спросил Львов.
– Она пригласила меня погулять… Рассказывала, как несчастна в семейной жизни, как бедна… Мне она показалась умной, ведь она читала стихи Торквато Тассо!
– Что ты хочешь сказать, друг мой?
– Мы даже целовались. Я обнимал ее, она сама обнимала меня…
– Да, да, и что же дальше? – Львов был уже в нетерпении.
– Дальше… Господь наказал меня, должно быть, за то, что… я изменил Машеньке.
– Что-о-о!
– Не сердись, Николаша… Когда я вернулся сюда, в кармане не оказалось кошелька с деньгами. Неужели это она?
– А ты думал, она ангел небесный? Поздравляю тебя, наивный баснописец. Немец, а простофиля похуже русских.
Николай Александрович достал табак и раскурил трубку.
Это было незадолго до отъезда их из Парижа: пора, пора домой!
Тебя, любезная, я обожаю!
У сенатора Алексея Афанасьевича Дьякова было пять дочерей. Из них трое уже выходили в свет, а младшенькие еще пребывали в отроческом возрасте.
Все они с нетерпением ждали возвращения из-за границы Львова с Хемницером. Михаил появился в доме Бакуниных в Петербурге как раз в день приезда. Увидав его, Марья Алексеевна радушно пригласила юношу непременно приходить завтра. Он явился, преодолевая робость, и был так радушно встречен, что забыл о ней, попав в компанию этих необыкновенных людей. И уже улыбался, хлопал глазами, не зная, кому отдать предпочтение. Капнисту ли, который, театрально вставая на колени перед сестрами, воодушевленно декламировал: «Тебя, любезная, я обожаю!» Или Хемницеру, честнейшему, наивному, скромному выходцу из немцев? Или Львову с его цицероновым даром преславно говорить и делать, подобно Цезарю, сразу множество дел?
У Львова была неистребимая жажда знаний, которыми он щедро делился. Широко вышагивая по комнате, с увлечением рассказывал о европейских впечатлениях.
– Ах, Рафаэль! Божественный талант! Богоматерь в сокрушенном отчаянье по правую сторону, Мария Магдалина – по левую, а лик у Богоматери таков, что, глядя на нее, так и хочется расплакаться. – Взглянул на Ивана Ивановича и добавил: – Некоторые так и делали. Наш баснописец забыл свое ремесло и предался слезотечению с такой страстью, что пришлось мне достать платок для носа.
– Николя, не надо бы признаваться в том при девицах, – буркнул Хемницер.
Но Львов потешал слушателей. Он продолжал:
– Если Рафаэль – это чудо, то Рубенс, милые сударыни, это, это… Представьте себе: женские фигуры предородные, титьки круглые, фунтов по шесть, фигуры стоят спокойно. Но тела их кажутся падучею болезнью переломлены… Одним словом, Рубенс – фламандская баня, исполненная непристойностями. Там иной сатир сажает себе нимфу, другой ухватил ее за то место, где никакой хватки нет. Если кто хочет полюбоваться на жену Рубенсову, то, несмотря на то, что она вся голая, гляди только на голову. Кажется, что ревнивая кисть ее супруга собрала все пороки женского тела для того, чтобы никто ею не воспользовался.
Девушки смущались, но не могли удержаться от смеха.
– Так ли все, Львовинька? – угомонившись, спросила Маша. – Уж очень вы строги к господину Рубенсу.
– Да если бы вы, милые сударыни, взглянули на те картины, а потом бы посмотрели на себя в зеркало, то уж наверное согласились бы со мной. Вот и Иван не станет со мной спорить, правда? – Он обернулся и совсем по-мальчишечьи подскочил и взлохматил кудрявую густую шевелюру Хемницера.
– Не надо, не надо, они и так у меня непослушные, – запротестовал тот.
– В Париже, – вновь воодушевляясь, продолжал Львов, – одна новость заглушает другую, новая песня – старую. Вспыхнет мода – и как мыльный пузырь тут же лопнет! Французы ко всему горячи и ко всему в то же время равнодушны. Новости мгновенно разносятся по Парижу и мгновенно надоедают. То они хвалят Вольтера, то Дидро, но более всего поклоняются Жан-Жаку Руссо.
– Не говори так, Николаша, – тихо заметил Хемницер. – Руссо – великий человек.
– Иван так мечтал о встрече с Руссо, так жаждал насладиться сим необычайным зрелищем, что просто извел меня: где да где мы его увидим? В конце концов пришлось мне показать на одного гуляющего в Пале-Рояле человека. Вот он, твой Руссо! Я пошутил, то был Строганов, но – что делать?
Толстые губы Хемницера надулись, как у младенца.
– Не шути так, Львовинька.