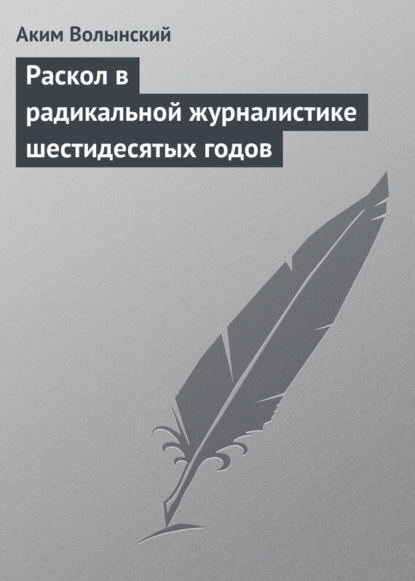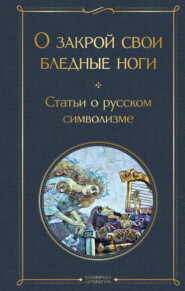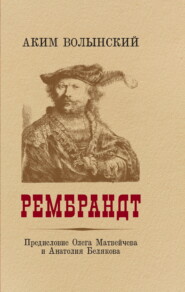По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(В исступлении думает, что все сие совершилось).
Я цензуру приумножил.
Нигилистов уничтожил!
Землю русскую стрепожмл.
(Закатывается и не понимает сам, что говорит).
Ножил! ножил! ножил! ножил!
Мих. Змиев-Младенцев[25 - «Современник», 1863, Апрель, Свисток, стр. 71-72.].
Среди стихотворных произведений Саввы Намордникова, Смарагда Бриллиантова, Фердинанда Тюльпанензона, Владимира Монументова и Михаила Антиспатова, украшающих последний номер «Свистка», это стихотворение является настоящим диким, но пышным цветком среди блеклой и сухой травы бессильных сатирических упражнений.
В следующих книгах «Современника» Щедрин, задевая по пути множество вопросов из текущей жизни, злобно и с ехидством полемизирует с Громекою, отражая его пылкия по форме, но бледные по содержанию публицистические нападения с искусственным уподоблением нигилизма внезапно разорвавшейся бомбе. С необычайною энергиею Щедрин формулирует несколько вопросов для редакции «Отечественных Записок» и затем, выслушав через некоторое время ответ этого журнала в майской книге[26 - «Отечественные Записки», 1863, Май, Заметка для редакции «Современника», стр. 190-194.], вновь и окончательно отбрасывает от себя противника, у которого не было ни сколько-нибудь заметного таланта, ни особенного политического такта для борьбы с таким выдающимся по литературному дарованию соперником[27 - «Современник», 1863, Сентябрь, Наша общественная жизнь, стр. 147.]. Вообще его фельетоны этого года захватывали русскую жизнь с разных сторон и представляли единственный отдел журнала, в котором трактовались события дня бойко, ярко, ядовито, с массою комических иллюстраций, вызывавших веселый смех во всей читающей публике. Сатира Щедрина, еще не определившаяся в своем направлении, хлестала насмешкой во все стороны, никого не щадя, не сообразуясь ни с какими партийными лозунгами, руководясь одним только убеждением, выраженным с обычною силою в характерном слоге, что вдохновенные глупцы едва-ли не вреднее, чем плуты, промышляющие ложью с сознанием[28 - «Современник», 1863, Август, В деревне, стр. 175.]. Все литературные кружки могли остаться недовольными статьями талантливого автора, от которого ожидали совершенно иных полемических приемов. Ударяя направо и налево и при этом не давая никакого положительного материала для верного суждения о его собственных политических и нравственных убеждениях, Щедрин сам подготовлял против себя журнальную реакцию. Радикальная партия «Русского Слова» прямо шокировалась этими фельетонами с их двусмысленными суждениями о молодом поколении, которыми Щедрин так неудачно закончил свою журнальную деятельность в «Современнике» 1863 г. Как должны были истолковать молодые радикальные деятели печати фразу Щедрина, что «так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном, диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты», что со временем «из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны»[29 - «Современник», 1863, Декабрь, Наша общественная жизнь, стр. 240.]? Положительного сочувствия к новому движению в этих подозрительных, обоюдоострых определениях никто не мог-бы увидеть. Разные комические сцены, написанные со смехом над российскими постепеновцами, отрицающими всякие исторические прыжки по пути прогресса[30 - Там же, 1863, Ноябрь, Наша общественная жизнь («Ну, нет, прыгать я не согласен!»), стр. 161-164.], не выкупали явных пробелов фельетонной сатиры Щедрина в отношении политической тенденции «Современника». Над его головою собирались грозные, полные электричества тучи. Люди с выдержанным направлением должны были раздражаться его беспринципным издевательством над всеми явлениями русской жизни и тем сочувствием, которое оказывала Щедрину пестрая толпа, падкая ко всякому шумному и бесцеремонному балагурству. Катков не замедлил, со свойственной ему злобною силою, обрисовать характер всей его журнальной деятельности 1863 года. В одном из первых номеров «Современной летописи» 1864 года мы находим следующие энергические, приправленные реакционным перцем, слова о сатирических приемах и манерах Щедрина. Все его писания Катков называет пустословием, которое производит впечатление только потому, что на него накинута цензурная мантия, заставляющая неопытного читателя думать, что самое лучшее осталось вне круга, очерченного роковым «дозволено цензурою». «Цензура, восклицает Катков, – вот жизненный элексир либеральной петербургской прессы. Представьте себе, что нет цензуры, и читатель пробегает например курьезные страницы, помещенные в последнем No „Современника“ под заглавием Ниша общественная жизнь-. он, конечно, ни минуты не затруднился-бы сказать, что это чепуха, и что ровно никакого смысла нет ни в этом рассказе о каких-то шалунах, появляющихся, когда начинается брожение в накопленных веками кучах хлама, и к числу которых причисляется Нерон, Калигула, какой-то исправник, вошедший в суд с собаками, ни в этих размышлениях о науке, от которой, но словам каких-то молодых людей, ни на волос толку не оказалось»[31 - «Современная Летопись», 1864 № 2. Роман на берегах Невы. стр. 12-13.]. Под сенью цензуры, пишет с лукавством этот усердный ревнитель строгих цензурных уставов, чепуха превращается в некоторого рода апокалипсис нового учения. Фразы Каткова, всегда производившие на публику известное впечатление, должны были насторожить радикальную печать, которую он всегда умел так или иначе взбудоражить и расстроить, возбуждая в ней междоусобные распри, а тут еще подошел эфектный, истинно скандальный случай, поднявший на ноги всю молодую когорту «Русского Слова». Январьский фельетон Щедрина 1864 г. в «Современнике» окончательно погубил радикальную репутацию журнала и вызвал против него целую кампанию со стороны публицистов, явившихся настоящими продолжателями Добролюбова и Чернышевского. Тучи, все более и более сгущавшиеся над «Современником», наконец, разразились настоящей грозой и яркая молния молодого таланта Писарева опалила и свалила на земь этот старый и уже дуплистый дуб. Журнал, который столько лет шел впереди всей периодической печати, лишенный своих главных, лучших творцов и работников, не мог долго просуществовать в руках людей без настоящей идейной выдержки. Именно здесь, в «Современнике», колебание и шатание известных традиций должно было особенно бросаться в глаза по контрасту с его недавним прошлым. Малейшая публицистическая оплошность, малейшее противоречие, простительное для какого-нибудь менее определившегося журнала, выступало здесь с особенной резкостью, зажигая негодование в обществе, дисциплинированном и привыкшем мыслить в известном направлении. Именно Щедрин, с его огромным талантом, при отсутствии духовной цельности и строгой умственной школы, оказался тем человеком, который, в стихийном охмелении, грубо разметал и растоптал важнейшие принципы с фанатической страстью продуманного и выстраданного журнального устава.
Сатирик «Современника» – странно сказать – насмеялся над романом Чернышевского и хватил в два кнута по нигилистке и нигилисту!
III
В январе 1864 г. Щедрин возвращается к разговору о молодом поколении. Среди разных малопонятных иносказаний он обращается вдруг к современному молодому поколению с следующими не то проническими, не то патетическими словами: «о, птенцы, внемлите мне!.. Вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все, стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие – все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру». Никакая чаша ни откуда не сойдет по той причине, что она давно уже стоить на столе. Ничто не раскроется перед этими птенцами, потому что жизнь дается только тем, кто подходит к ней в «благопристойной одежде». «Ждите же, птенцы, и помните, что на человеческом языке есть прекрасное слово со временем, которое в себе одном заключает всю суть человеческой мудрости»… Это – великое слово, которое должно утешить всякого, кто кстати употребит его. «Когда я вспоминаю, например, пишет Щедрин, что со временем дети будут рождать отцов, а яйца будут учить куриц, что со временем зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что со временем милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать: Ни о нем я, Дуня, не тужила (ибо со временем, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтобы до тех пор совесть моя была чиста». Затем, как-бы разгулявшись на счет нигилистки, Щедрин набрасывает следующую удивительную сцену, пригодную для обличительно-консервативного романа. Недавно, говорит он, одна нигилистка, вся содрогаясь от негодования, рассказывала ему, что она была в опере и, по обыкновению, обитала в пятом ярусе, а между тем пресловутая Шарлотта Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала в бель-этаже и «бесстыдно предъявляла алкающей публике свои обнаженные плечи и мятежный груди вал».
– И как она смела, эта скверная! визгливо заключила рассказчица, топая ножкой.
– Да вам-то что до этого?
– Помилуйте! я, честная нигилистка, задыхаюсь в пятом ярусе, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественного темперамента… смеет всенародно показывать свои плечи… Где же тут справедливость? И неужели правительство не обратит, наконец, на это внимания.
Собеседник стал доказывать нигилистке, что если Шарлотта Ивановна имеет возможность сидеть в бель-этаже, то ведь за то она не обладает чистой совестью и что она, нигилистка, обладает чистой совестью и, в виде поправки, осуждена на сидение в пятом ярусе.
– Ну, согласились-ли бы вы променять вашу чистую совесть на ложу в бель-этаже?
– Конечно, нет! отвечала она, но как-то так невнятно, что пришлось повторить вопрос.
Изобразив в этом двусмысленном свете нигилистку, сатирик тут же выводит на сцену столь же двусмысленного нигилиста, готового отстать от всего, что автор называет жизненными трепетаниями, чтобы присосаться к житейскому пирогу. На замечания автора, что его рассуждения слишком смахивают на то, что пишется в «Русском Вестнике», нигилист с каким-то меланхолическим цинизмом замечает: «Э, батюшка! все там будем». В заключение этого пассажа Щедрин с злорадным юмором восклицает: «Я сказал вещь резонную, когда утверждал, что нигилисты не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты»[32 - «Современник» 1844, январь, Наша общественная жизнь, стр. 25-28.].
Вот несколько страниц, на которых, так сказать, окончательно переломилась история «Современника». В словах «современен, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет», Щедрин пародировал роман Чернышевского, и это было сейчас же отмечено в печати. «Как известно! восклицает Страхов в октябрьской книге Эпохи 1864 г. Несчастный! Откуда это известно? Это могло быть известно только из одной книги, – из романа Что делать»! Злобные насмешки над нигилистами немедленно вызвали энергический отпор со стороны «Русского Слова». В февральской книге этого журнала мы находим две статьи, направленные против Щедрина: одна, В. Зайцева – «Глуповцы, попавшие в Современник», другая Писарева – «Цветы невинного юмора». С возмущенным чувством оскорбленного в своих лучших симпатиях человека, Зайцев накидывается на Щедрина с грубыми словами, взывая к блюстителям направленских идей «Современника». Он резко бичует Щедрина за его последний фельетон и, подозревая в нем скрытого сторонника Каткова, старается сорвать с него радикальную маску. Ему представляется, что Щедрин притворно рядился в костюм Добролюбова, «прежде, чем предстать пред публикой в своем собственном рубище будирующего сановника». Но желая ударить его по мнимой маске, Зайцев грубо задевает его человеческую личность, заявляя, что молодое поколение брезгает разделять эти подонки остроумия игривых экс-администраторов. Зайцев не обратил-бы внимания на проделки Щедрина, если-бы он «выделывал свои курбеты» где-нибудь в другом месте. Но нельзя равнодушно смотреть, пишет он, обращаясь к фельетонисту, как вы администраторствуете на тех самых страницах, где еще так недавно мы прочли Что делать. Омерзительно видеть самодовольного балагура, дошедшего из любви к беспричинному смеху до осмеиванья того, чем был вчера, и провозглашающего глуповскую мораль в роде следующей: «яйца куриц не учат». Бросайте Добролюбова! ехидно восклицает Зайцев: ведь он принадлежал к птенцам. Отвернитесь от Чернышевского: ведь вас разбирает смех по поводу его романа «Что делать»!.. Щедрин юмористически намекает на смелую беллетристическую утопию «Современника», изображая нигилистку, рассекающую труп с припевом Ни о чем я, Дуня, не тужила. По где это видано было, чтобы какой-нибудь администратор издевался над учреждением, украшаемым его собственной персоной! Зайцев дает волю своему негодованию. Деятели «Русского Слова» всегда сочувствовали «Современнику» и, чуждые барышнических рассчетов, никогда не умалчивали, что это лучший из русских журналов. «Современник» Добролюбовым и Чернышевским возведен на настоящую авторитетную высоту. Он руководит молодым поколением. И вот почему он, Зайцев, считает себя в праве обратить внимание уважаемых сотрудников Современника на новое направление, придаваемое этому журналу Щедриным. «Прошу их вспомнить, пишет он, обличения, которыми они часто преследовали литературное ренегатство, и заметить, что Современник находится в эту минуту на весьма скользком пути. После Добролюбова, каждое слово которого было запечатлено горячей симпатией к прогрессивной части русского общества, после Что делать, в котором не видно ни малейшего желания лизоблюдничать – было-бы прискорбно видеть Современник подражающим Русскому Вестнику в брани и злобе на все, что старается высвободиться из под рутины и дышать по человечески». Зачем не смотрит Антонович за Щедриным, Антонович, обрушившийся на Тургенева за его несочувствие к птенцам? Куда девался Пыпин, тот самый Пыпин, который не может издать книжки, не упрекнув в предисловии Тургенева «за пренебрежительный отзыв его об изучении молодежью естественных наук»: придирки Тургенева – верх голубиной кротости сравнительно «с рычащими лесным воем остротами» игривого экс-администратора, издевающегося в «Современнике» над «милыми нигилистками». Журнал, уважающий себя, заключает Зайцев, не может совместить в себе тенденции остроумного фельетониста с идеями Добролюбова. Надо выбирать одно из двух: или идти за Чернышевским, или смеяться над ним[33 - «Русское Слово», 1834 г., февраль, Глуповцы стр. 34-42.]….
В той же книжке «Русского Слова» Писарев в резкой, но талантливо написанной статье производит критическую оценку всей литературной деятельности Щедрина. По мнению критика, Щедрин с полною справедливостью может быть назван одним из представителей чистого искусства в его новейшем видоизменении. В его произведениях не видно любви к определенной идее, не слышно голоса взволнованного чувства. Принимаясь за перо, он не думает о том, куда хватит его обличительная стрела – в своих или чужих, в титулярных советников или в нигилистов. Он пишет рассказы, обличает неправду, смешит читателя, потому что умеет писать легко и игриво, обладает огромным запасом диковинных материалов и любит потешиться с добродушным читателем над комическими явлениями Жизни. Вот почему его сатира в высшей степени безвредна, даже приятна для чтения, даже полезна с гигиенической точки зрения, потому что помогает пищеварению. Вот почему в ней не слышатся никакие грустные и серьезные ноты, как у Диккенса, Теккерея, Гейне, Гоголя и вообще у всех «не действительно-статских, а действительно замечательных юмористов». Измените слегка его манеру изложения, отбросьте шалости языка и конструкции, и вы увидите, что юмористический букет в писаниях Щедрина значительно выдохнется. Когда Щедрин только что начал свою литературную карьеру, при первых ракетах его забавного остроумия, провинциальные чиновники сначала слегка переконфузились. Они подумали, что эти первые проблески таланта служат предвестниками сатирического грома. Но гром не грянул, и догадливые провинциалы успокоились, возлюбили веселого Щедрина и продолжают побить его вплоть до настоящего времени. При всей глубокой невинности и несложности тех пружин, которыми Щедрин «надрывает животики почтеннейшей публике», он никогда не действует открыто, просто. Секрет его тактики состоит в том, пишет Писарев, повторяя отзыв Каткова, чтобы говорить неясно, давая чувствовать, что у него остается что-то невысказанное. В его сочинениях, во всех без исключения, нет ни одной новой идеи, но каждая идея показывается в них из под полы с таинственными предосторожностями и лукавыми подмигиваниями, с видом особенно глубокомысленным. Сам Щедрин постоянно выступает в позе завзятого прогрессиста, но соскоблите лак с его произведений – и вы увидите невинность. Скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и везде вы встретите одно и то же – невинность да невинность, угнетенную по недоразумению, угнетенную потому, что «угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки». Щедрин заимствовал из Добролюбовского «Свистка» манеру относиться недоверчиво к нашему официальному прогрессу, но естественный, живой и сознательный скептицизм Добролюбова превратился у его подражателя в пустой знак, в кокарду, которую он пришпиливает к своим рассказам, чтобы сообщить им колорит безукоризненной прогрессивности. Благодаря этому маневру, он приобрел сочувствие молодежи, с которою у него нет ничего общего. «Но мне кажется, заявляет Писарев, что сочувствие это необдуманно и не проверено критическим анализом». Молодежь смеется, читая Щедрина. Молодежь привыкла встречать его имя на страницах лучшего русского журнала и потому ей не приходит в голову отнестись к своим впечатлениям с недоверием и критикой. «Но мне кажется, что влияние Щедрина на молодежь может быть только вредным, и на этом основании я стараюсь разрушить пьедестальчик этого маленького кумира, и произвожу эту отрицательную работу с особенным усердием»[34 - «Русское Слово», 1864, Февраль, Цвети невинного юмора, стр. 33.] Затем Писарев, в пылу своего искреннего увлечения естественными науками, советует Щедрину бросить Глупов и заняться популяризированием европейских идей естествознания и антропологии. Пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, заключает он свою статью, и тогда он будет действительно полезным писателем при его уменье владеть русским языком и писать живо, весело.
Эти две статьи «Русского Слова» глубоко уязвили Щедрина, и он рванулся на своих противников – по выражению «Отечественных Записок», с тележной оглоблей в руках. Все самые грубые и неприличные ругательства, не имеющие сами по себе никакого смысла, были пущены в ход. Желая поддержать авторитетный тон «Современника», он высокомерно третирует злобствующих «мальчиков», этих «новых Колумбов, искусно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды». Потеряв душевное равновесие, Щедрин разливает целые потоки хулы и сквернословия, называя современное молодое поколение «ядовитой слизью, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась». Мальчики, говорит он, кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни, подплясывая, продолжает он, сваливая грех с больной головы на здоровую, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга лакомые куски. «Это целая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – неименье никаких принципов». Приходя мало помалу все в большее бешенство, он разражается между прочим следующими постыдными фразами: «Не поленитесь наблюсти когда-нибудь, говорит он, за улыбками мальчика, за его пожатием руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки, со всем её тайным высокомерием»… Обращаясь к новым, оскорбившим его деятелям печати.
Щедрин называет их вислоухими и юродствующими, которые «с ухорскою развязностью» прикомандировывают себя к прогрессивному делу. Эти люди, пишет он, считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление, общее всем векам и странам. Эти люди серьезно готовы признать «болтуна Базарова» за тип современного прогрессиста. Переходя к самым статьям Зайцева и Писарева, пишущих в «невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды», Щедрин рассказывает своим читателям, какую бурю поднял его прошедший фельетон в мире «вислоухих, юродствующих, лилипутов» – его безобидный фельетон, имевший целью сказать правдивое слово о молодом поколении, «захламощенном различными услужливыми ревнителями». Но он никогда не самообольщался на счет вислоухих. Он всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, к которому прикоснутся, «подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную». Надо оградить общество от горлопанов, юродствующих и вислоухих «с их скудным запасом умственных способностей». Вислоухие рисуются демократизмом, но весь их демократизм состоит в том, что «они ходят в поддевке и сморкаются без помощи платка». Они рисуются нигилизмом, но нигилизм свой доказывают только тем, что готовы во всякое время дня выбежать голыми на улицу. Они считают себя социалистами, но «Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь, как на увеселительное заведение с пением и плясками!» Они ругают его, Щедрина, за несколько критических замечаний о романе Чернышевского, а между тем всякий разумный человек, читая этот роман, «сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей.» Вислоухие обходят существенное содержание «Что делать» и приударяют на счет подробностей, среди которых их всего более соблазняет «перспектива работать с пением и плясками»… Обрисовав в таких ужасающих, отталкивающих и карикатурных чертах наиболее типичных представителей передовой России того времени, Щедрин приносит покаяние в своих проступках перед представителями отживающей России, которых обличала до сих пор его сатира: «Да, я каюсь пред вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем»[35 - «Современник» 1864. Март, Наша общественная жизнь, стр. 46.]…
Редакция «Русского Слова» ответила немедленно. В неподписанной заметке под названием «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист Современника», журим резко и беспощадно разоблачает все скверные стороны в полемическом фельетоне Щедрина. Фельетонист «Современника» доказал в самом деле, что его чаша полна, но что в ней заключается не нектар, а какая-то «желтая жидкость». Все сотрудники «Русского Слова» обруганы казарменным стилем, которому мог бы позавидовать любой уличный листок. От всех острот Щедрина «пахнет салом курдюцкого барана». Однако он не дал никакого принципиального ответа на возникшие в печати сомнения по поводу его выходки против нигилистов и Чернышевского. Он ничего толком не объяснил, и в его фельетоне, кроме ругани, ничего найти невозможно. «Нас удивляет, пишет Русское Слово, каким образом редакция журнала, всегда отличавшегося тактом, позволила открыть у себя, вместо легкого литературного отдела, какой-то балаган, наполненный кривляньями и буфонством». К чему этот беспредметный гам и стон на том самом месте, где читатели привыкли встречать настоящую полемику, не руководимую раздражением канцелярского самолюбия? Разве Добролюбов отхватывал трепака, когда вступал в единоборство со своими противниками? Разве Чернышевский клеветал на своих оппонентов, с которыми он расходился во мнениях? «Мы еще раз предупреждаем Современник, пишет Русское Слово, что есть границы унижения, за которыми сочувствие, так дорого купленное прежними его деятелями, уже трудно возвратить». Пусть редакция «Современника» обратит внимание, что в их круге оказалась чужая овца. Щедрин издевается над лучшей частью русского общества, но видано-ли где-нибудь, чтобы журналистика издевалась над теми людьми, с которыми она находится в естественной связи, от которых она должна ожидать своих лучших деятелей?..[36 - «Русское Слово», апрель, Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист Современника, стр. 73.].
Косица и журналист, подписавший Incognito, отметили, каждый в свое время, фальшивый выверт Щедрина в его полемическом объяснении по поводу Чернышевского. Ради здравого понимания дела, ради высших интересов истины, писали «Отечественные Записки», мы обязаны сказать, что увеселительное здание из хрусталя и аллюминия в романе «Что делать» вовсе не произвольная подробность. Объяснение Щедрина, заявлял Косица в «Библиотеке для чтения» 1865 г., есть одна уловка, ибо подробности, которые он осуждает, глубочайшим образом связаны с главною мыслью, с основным духом всего романа… Радикальная репутация Щедрина явно пошатнулась, и «Современник», так долго руководивший общественным мнением России, поколебался в своем положении. Два фельетона талантливого, но опрометчивого сатирика должны были окончательно погубить это издание, изменившее самому себе. В это-то время «Современник», надеясь еще наверстать все потерянное в летучей схватке с «Русским Словом», усиливает свою полемику с Достоевским и, как мы уже знаем, доводит ее до невероятного безобразия, вызвавшего энергичный протест во многих столичных и провинциальных изданиях. Не только литературная, но и нравственная репутация журнала стала шататься в глазах публики. Щедрин и Антонович каждым своим шагом все более и более рвали связь с прежними лучшими деятелями, и новые силы, шедшие на смену Добролюбову и Чернышевскому, не упускали случая, чтобы довести до конца раз начатую борьбу с «Современником». В апреле 1864 года Антонович бросает скрытый намек в статье о Писемском против «критиков-детей», увлекшихся новым романом Тургенева[37 - «Современник», 1864, апрель, Современные романы (по поводу «Взбаломученного моря» А. Ф. Писемского и «Призраков» Тургенева), стр. 207.]. Он все еще не может понять своей роковой ошибки, поставившей его в ложное, двусмысленное положение по отношению к молодому поколению. Ему все еще кажется, что Базаров есть карикатура на тип этого молодого поколения. Лишенный всякого критического чутья и художественного понимания, он все еще разгуливается насчет Тургенева и Базарова в площадном тоне, без единого признака живого чувства, живой и непосредственной талантливости. «Современник» как-бы не хочет считаться с взглядами Писарева, который сразу, еще в марте 1862 г., метко оценил произведение Тургенева в статье под названием «Базаров». Он пренебрежительно трактует человека с настоящим критическим даром, по темпераменту как-бы призванного заменить Чернышевского в современном прогрессивном движении русского общества. С наивностью самого поверхностного публициста, непривыкшего взвешивать полемические силы своих соперников, он сам лезет на борьбу с тою же тележною оглоблею, которою бился Щедрин, и при том без его стихийного размаха. Но Писарев мог только выроста и показать свое природное дарование в схватке с «Современником». Тип Базарова представлялся ему превосходным художественным воплощением его собственных убеждений, всех симпатий и убеждений молодого поколения, к которому он принадлежал, и выйти на битву за Базарова, именем Базарова, под флагом реалистического радикализма, значило для него сразиться за святыню своих пылких идейных влечений и страстей. Он с чувством полного превосходства приступил к полемике с «Современником» и на противника, прикрывающегося авторитетом изъятых из борьбы деятелей, обратил свой остро-наточенный, удалецки-разбойнический нож. В трех статьях, под интригующим заглавием «Нерешенный вопрос», он изложил, с настоящим вдохновением, почти с энтузиазмом, с удивительным литературным красноречием, все свои главнейшие убеждения, основные принципы своего мировоззрения. Со страстью юноши он вычерчивает любимый им образ Базарова, выражает несколько смелых суждений о нормальных отношениях между мужчиною и женщиною и с протестантским негодованием набрасывается на поэзию и искусство в таких фразах, которые, несмотря на дико-фальшивое содержание, по своей литературной чеканке сами должны быть отнесены к блестящим страницам русской критической литературы. Антоновичу он указывает на его грубые ошибки, замечая при этом, что роль первого критика совершенно не соответствует его силам. На многих страницах своей статьи он обличает его в полном непонимании художественной фигуры Базарова. Приведя один из нелепых комментариев его, в котором Антонович упрекает Базарова в жестокости характера. Писарев вдруг, изменив общему тону своей статьи, бросает ему в лицо несколько комических, издевательских фраз: «Ах, ты коробочка доброжелательная! Ах, ты обличительница копеечная! Ах, ты лукошко глубокомыслия!» После всего случившегося, после фельетонов Щедрина, нанесших оскорбление Чернышевскому и молодому поколению, Писарев уже не считает необходимым сколько-нибудь щадить «Современник». Критика этого журнала опростоволосилась в одном из важных литературных вопросов, и её бестактный поступок по отношению к роману Тургенева надо как можно скорее загладить пред русской читающей публикой. «Критика наша, с полемическим гневом восклицает Писарев, по обыкновению смотрит в книгу и видит фигу, и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется Антоновичу раскаиваться в его статье об Асмодее нашею времени. Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении. Так напакостить мог именно один только Современник»[38 - «Русское Слово», Сентябрь, «Нерешенный вопрос», стр. 42.]. Таков был первый залп, сделанный по «Современнику» Писаревым. В полемическую борьбу с Антоновичем вмешался человек с крупным литературным талантом и совершенно определенным мировоззрением, которое он имел полное право соединять с традициями Чернышевского, человек, которому Чернышевский протянул-бы руку, если бы в это время его публицистическая деятельность уже не была закончена в силу чисто внешних обстоятельств. Зайцев не был опасным соперником для Антоновича: лишенные литературного таланта, с самым ограниченным кругозором, оба они могли препираться до остервенения, чуть не до кулачных потасовок, изобличая друг друга в недобросовестности, но ни один из них, ни одною своею статьею, не вносил в эту борьбу ничего, что имело-бы истинно литературный характер и значение. Их полемическая схватка груба, безыдейна по содержанию, скандальна по своей распущенности. Но Писарев, несмотря на дикость своих эстетических принципов, несмотря на свою анти-литературную агитацию, был настоящим литератором по темпераменту и по уменью обсуживать художественные явления и оценивать литературное значение своих противников. Его сильное, почти азартное, в немногих строках, нападение на критику «Современника» должно было произвести ошеломляющее впечатление. В этих резких фразах, почти вносящих диссонанс в общий тон его статьи, но обставленных превосходно подобранными и блестяще-разработанными доказательствами, нельзя было не почувствовать цельного и чистого фанатического убеждения. Нельзя было не видеть, что Писарев не сдастся. Верный и убежденный партизан Чернышевского, он был при этом настоящим, типическим выразителем наступившего исторического момента. Выйдя на защиту Базарова, он опирался на живые силы современности. Стоя впереди реалистического движения, он всеми фибрами своей души был связан с прогрессивной толпой того времени.
И «Современник» немедленно откликнулся на дерзкий вызов молодого таланта. В октябре 1864 года Посторонний Сатирик (Антонович) выражает удивление по поводу статьи Писарева «Нерешенный вопрос». По его мнению, статье этой приличнее было-бы появиться в «Эпохе», в «Отечественных Записках», даже в «Русском Вестнике», но никак не в радикальном журнале. Ему приходит в голову, что помещением этой статьи «Русское Слово» хотело совершить какой-то фокус, чтобы вызвать в журналистике новый разговор о нигилистах и затем отречься от всякой солидарности с этой статьей. Антонович считает себя вынужденным обратиться к редакции «Русского Слова» с вопросом: согласна-ли она с этой статьей, разделяет-ли она все суждения её автора о романе Тургенева и о критике на этот роман, помещенной в «Современнике»? Антонович не начнет своей полемики раньше, чем не получит печатного ответа на свой вопрос. Сделав такое приглашение, Посторонний сатирик обращается к одному из постоянных сотрудников «Русского Слова», Минаеву, с вопросом, как он думает о статье «Нерешенный вопрос»? Как вы относитесь к деянию вашего сотоварища по журналу? допрашивает он его. Такой же вопрос он предлагает издателю журнала, Благосветлову. В заключение, разыграв с хлестаковской наивностью роль заваленного делом человека, Антонович важно заявляет о том, что ему нужно еще закончить полемику с «Эпохою», что ему необходимо присматривать за двумя органами Краевского, не упуская при этом – Боже сохрани – из виду московской печати. Полемика с «Русским Словом» подвернулась совсем не кстати, но нечего делать, – уж так и быть, он согласен: как только он получит ответ, он поднимет перчатку, брошенную ему редакцией молодого журнала[39 - «Современник», 1864 г., октябрь. Вопрос, обращенный к Русскому Слову, стр. 268-290.].
«Русское Слово» ответило твердо и ясно. Журналу незачем отрекаться от солидарности со статьею «Нерешенный вопрос». Статья эта оценивает деятельность и современное значение тех людей, на стороне которых находятся все симпатии его сотрудников. Автор этой статьи защищает литературный тип от той клеветы, которую взвела на него журналистика, и показывает важное значение базаровского элемента в общественной жизни, в науке, в искусстве. В этом принципиальном отношении оба журнала разошлись еще в 1862 г., со времени статьи Писарева «Базаров», но «Русскому Слову» нечего бояться полемики и угроз «Современника». В той же книге Зайцев отмечает всю непристойность полемики Антоновича с «Эпохою»[40 - «Русское Слово» 1864 г., октябрь, Ответ Современнику, стр; 103-104 и Славянофилы победили, стр. 71.].
В декабре того же года Антонович обращается к «Русскому Слову» с «Предварительными объяснениями». Он получил печатный ответ и потому должен был-бы начать полемику непосредственно, но тем не менее он находит нужным вдаться в некоторые прелиминарные переговоры. Прежде всего он должен упрекнут Зайцева за то, что тот не понял смысла его полемики с «Эпохою». Неужели, в самом деле, сотрудник «Русского Слова» не видит в этой полемике ничего, кроме непристойностей и личностей? Антоновичу представляется, что в его базарной ругне, обращенной на Достоевского, можно найти какой-то идейный смысл, и он решается спросить Зайцева: «ужели вы не захотели-бы подписать ни одной из моих полемических статей, ужели и вам кажется, как Отечественным Запискам, что моя полемика не требуется для блага отечества и не проливает света на мировые вопросы?» Затем Антонович, слегка укорив Зайцева за его отношение к неграм, переходит к главному вопросу о романе Тургенева. По его глубокомысленному толкованию, Тургенев показал «Русскому Слову» фигу, а оно стало целовать эту фигу, «приняло ее за идеал, за комплимент», и «водяным настоем этой фиги» стало разбалтывать свои критические статьи. Похвалившись тем, что он всеми признан за моветонного полемизатора, Антонович заявляет, что он просто рад трем знаменитым ругательным фразам Писарева: они развязывают ему язык и дают возможность не стесняться в выражениях. Если его критика была названа лукошком глубокомыслия, то отныне он будет называть критику «Русского Слова» бутербродом глубокомыслия, и, говоря о «критикантах» этого журнала, он будет выражаться так: бутерброд с глубокомыслием Благосветлова, бутерброд с глубокомыслием Зайцева, бутерброд с глубокомыслием Писарева. Тургеневские фиги понравились бутербродам «Русского Слова»! Бутерброд с глубокомыслием Зайцева подсиживает «Современник». Спросите у бутерброда с глубокомыслием Зайцева, умеет-ли Антонович непристойно полемизировать? Друзья-бутерброды, коробочки и лукошки, давайте спорить!.. Развернув таким образом свое остроумие, Антонович не упускает однако случая указать на то, что статью его о Тургеневе принял сам Чернышевский. Если его критика оказалась лукошком глубокомыслия, значит[41 - «Современник», 1864 г., декабрь. Литературные мелочи, стр. 156-172.]…
Это предварительное объяснение Антоновича «Русское Слово» встретило с некоторою сдержанностью. Зайцев и сотрудник, подписавшийся «Заштатный юморист», поздравили Постороннего Сатирика с остроумными бутербродами и в насмешливых выражениях указали ему на то, что он затевает полемику не по-рыцарски. Может случиться, что он останется один на этом турнире, если не изменит своей тактики. Однако, при всей «аттенции» журнала к «Современнику», сотрудники «Русского Слова» считают себя обязанными приготовиться к преломлению рыцарских копий[42 - «Русское Слово» 1864 г. декабрь. Постороннему Сатирику Современника и Библиографический Листок, стр. 24-26.].
Так разжигали друг друга своими «предварительными объяснениями» сотрудники двух радикальных журналов, прежде чем начать излагать пред публикой оттенки своих принципиальных несогласий. Не говоря пока ничего по существу, они потрясают воздух диким криком, как готовящиеся к бою полуварварские орды, издали угрожающие друг другу своими военными орудиями. Одни размахивают тяжеловесными дубинами, другие с яростью показывают зловеще сверкающие ножи. Битва будет рукопашная, исступленная, беспощадная… С первой же книги 1865 года «Современник» обрушится на «Русское Слово», и схватка разыграется по всей линии. Ничто не укротит воюющих сторон, пока в этом стихийном столкновении не выяснится окончательно, кто действительно силен и способен победоносно взять роль общественного руководителя. Журналы других направлений будут злорадно следить за этой дракой в среде радикальной партии, а «Отечественные Записки», примыкающие к прогрессивному движению, кружась подле дерущихся, будут бессильно размахивать унылыми алебардами своего умеренного либерализма.
IV
В декабре 1864 года Щедрин уехал из С.-Петербурга, о чем он сообщил в «Современнике» в открытом письме на имя Н. Некрасова. «Оставляя С.-Петербург, писал он с сухим лаконизмом, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции». Подняв целую бурю в литературе своими фельетонами о нигилистах и насмешкой над оптимизмом Чернышевского, Щедрин на время прекращает свою публицистическую работу. Он поступает на службу, назначается председателем пензенской казенной палаты и, оторвавшись от шумной деятельности передового журналиста, на некоторое время почти скрывается с литературного горизонта – до тех пор, пока Некрасов не привлекает его, в 1868 году, к ближайшему участью в преобразованных «Отечественных Записках». В «Современнике», в качестве главного деятеля, остался один Антонович. Только что окончив полемику с «Эпохою» и уже раззадорив сотрудников «Русского Слова», Антонович должен был выдержать новую битву с этим журналом, который явным образом продолжал традиции Чернышевского. В этом новом споре каждое его слово, после смутивших публику фельетонов Щедрина, могло иметь самое серьезное значение для «Современника». Антоновичу предстояла трудная задача вновь поднять репутацию издания, которая, очевидным образом, истощалась, падала, разлагалась. «Русское Слово» быстро вырастало под редакцией энергичного и предусмотрительного человека, каким был Благосветлов. Его сотрудники, с Писаревым во главе, уже успели привлечь к себе сочувствие публики, которая находила живой отголосок своих настроений, своих надежд, своих запросов в статьях и заметках этого молодого журнала. Свежие литературные работники шли в редакцию Благосветлова, где все, как некогда в «Современнике», кипело своеобразным задором и страстями протестантского реализма. Здесь они могли работать на большей свободе, не стесняемые ничьим мелким самолюбием, которое в «Современнике» этой поры, с заносчивым Антоновичем во главе, должно было отпугивать всякую свежую умственную силу. Выдыхаясь в области литературной и философской критики, «Современник» лишался того рычага, которым всегда управлялось в России общественное мнение. Критика «Русского Слова», отвечавшая воззрениям интеллигентной толпы, воспитанной на статьях Чернышевского, критика, яркая по форме, смелая и решительная в своих требованиях, критика, блещущая настоящим природным талантом, становилась центром нового умственного движения, в котором Антонович, лишенный серьезного литературного дарования, уже не мог играть никакой роли. Победа должна была остаться на стороне «Русского Слова».
В январе Антонович, связанный собственным обещанием, обращается к двум деятелям враждебного органа. С поддельным и вымученным остроумием, отдающим циническим бахвальством, он упрекает сотрудников «Русского Слова» в том, что они отлынивают от прямых объяснений с ним. Нет, друзья мои, восклицает он, не на того напали! и потом, переходя из оборонительного тона в наступательный, прибавляет: «Я не позволю отвлечь себя от главного предмета, да и вас не пущу от него ни на шаг! Я вас заставлю объясниться со мной». Не доверяя добросовестности своих противников, он будет формулировать свои сомнения в виде тезисов и вопросов. Каждый тезис или вопрос будет стоять у него под номером, так что, если какой-нибудь его противник пожелает уклониться в сторону, он укажет на него пальцем, он прямо носом ткнет его в номер. Пусть дрожат все эти бутерброды с глубокомыслием Благосветлова, Зайцева и Писарева. Он идет на них войною и непременно одержит над ними победу. Пусть они посмотрят на трофеи его прежних сражений: Косица лежит во прахе, «Эпоха» разбита в дребезги… Предчувствуют-ли его теперешние враги, что с ними будет? «Что? обиделись? Вам неприятно, что вас назвали бутербродами, да? Вот то-то же и есть, крошечка г. Зайцев, душечка г. Благосветлов»… Затем, разбирая по пунктам свои грубые и мелочные перекоры с «Русским Словом», деловито пересматривая все взаимные характеристики с остроумными уподоблениями лукошку, фиге, бутерброду, он побивает Зайцева его плантаторскими тенденциями, а Благосветлова, натянувшего на себя базаровскую маску, тем, что он некогда вел «уморительную» полемику против идей Чернышевского. Но предметом принципиального спора он считает статью Писарева «Нерешенный вопрос». Он уже два раза говорил «Русскому Слову»: иду на вас, он два раза предлагал ему отказаться от солидарности с этой статьей. Теперь он предлагает это редакции в последний раз и, если она не послушает его, он заставит ее отказаться от «Нерешенного вопроса» и расхлебать кашу, которую заварила эта статья.
В заключение Антонович пользуется неловким объяснением на щекотливую денежную тему Благосветлова с литератором М. Вороновым, издевательски предлагая издателю «Русского Слова» расплатиться за провинившегося литератора из собственного кошелька.
В той же книге Д. Минаев, неожиданно передавшийся на сторону «Современника», отвечает Антоновичу на его вопрос о том, согласен ли он с идеями, выраженными в «Нерешенном вопросе». Бойкий пасквилянт оказался несолидарным с Писаревым. Сотрудник пошлого «Будильника» никогда «не доходил до обожания базаровского типа» и в романе Тургенева видит только пролог, прелюдию к эпическим творениям Писемского, Клюшникова и Стебницкого[43 - «Современник» 1865 г., январь, Литературные мелочи, стр. 157-172.].
Благосветлов, грубый не менее, чем Антонович, но более, чем он, ловкий и твердый, ответил немедленно. Он издевается над Антоновичем. Из обширного лексикона бранных слов он выбирает самые кричащие. Посторонний Сатирик угрожает решительно истребить сотрудников «Русского Слова». Он махает руками и делает всевозможные ужасающие жесты! С ним говорят спокойно, а он на полторы мысли ставит до пятисот вопросительных знаков. Противники едва удостаивают его ответа, но он не унимается. Размазня, предлагаемая в статьях Антоновича, заварена самим «Современником», и пусть сам «Современник» ответит, считает ли он себя солидарным с известными фельетонами Щедрина о нигилистах и Чернышевском. пусть он ответит, какими рыцарскими побуждениями руководствовался Щедрин, обратив против «Русского Слова» целую батарею разухабистого остроумия. Антонович бессовестно лжет, обвиняя его в том, что он писал уморительную критику против Чернышевского. Он никогда не укорял Чернышевского ни в чем постыдном и в этом всякий может убедиться, пересмотрев его статьи, напечатанные в «Отечественных Записках»… По вопросу о Воронове, он с презрением откидывает от себя издевательство Антоновича, предлагая ему направить в другую сторону его «копеечную филантропию»[44 - «Русское Слово» 1865 г., январь, Буря в стакане воды, стр. 166-171.]… Посторонний Сатирик не остался в долгу у Благосветлова. Благосветлов поднял свой нос и показал себя о натюрель, говорит он. Голова его, «страждущая абсентизмом толку», совершенно притуплена заносчивостью и самомнением. Антонович знал, что его противник пойдет на самые крайние меры, чтобы спрятать свой замаранный хвостик, но он не ожидал от него бессовестного запирательства. Перепечатывая, по своему обыкновению, всю заметку Благосветлова, Посторонний Сатирик постоянно перебивает её текст назойливыми и развязными замечаниями в скобках. Намекая на то, что Благосветлов получил журнал от графа Кушелева-Безбородко, Антонович подносит противнику следующее неприличное обвинение: «вы, г. Благосветлов, пишет он, некогда в графской передней почивали на связке парадных гербовых ливрей», и тут же, через несколько строк, прибавляет: по истине вы бутерброд и больше ничего! Бутерброд с размазней, да еще гнилой!.. Благосветлов спрашивает о солидарности «Современника» с Щедриным, и вот Антонович отвечает с хитроумием, достойным настоящего журнального заправилы, что «Современник» вполне солидарен с бранными фельетонами сатирика, «поколику они относятся к г. Блого Светлову, а к другим сотрудникам только относительно их мнений, несогласных с Современником». Печатая статьи Щедрина, «Современник» проникнут был негодованием на таких литературных шалопаев, как Благосветлов, и «хотел очищать литературу от гнилых и заразительных бутербродов». Антонович не смешивает своей полемики против Писарева и Зайцева с полемикой против Благосветлова. «Много чести для вас, пишет он, если вы их называете своими сотрудниками. Гораздо точнее назвать вас ихнем прихвостнем или, лучше, человеком, загребающим жар ихними руками»[45 - «Современник» 1865 г., февраль, Глуповцы в Русском Слове, стр. 367 – 386.].
Разбросав на пространстве двадцати страниц множество самых разнообразных «бутербродов», – с глубокомыслием, с шалопайством, с размазней, бутербродов простых, гнилых и заразительных, и повторив на сотню ладов одни и те же обвинения против Благосветлова, Антонович в той же книге «Современника» помещает еще две длинных ругательных статьи: одну (в 15 страниц) против «Краев-скаго» и «Ду-дыш-кина» и другую (в 38 страниц) против Зайцева, отложив еще до следующих книг громадную ругательную статью против Писарева. Подражая изо всех сил Чернышевскому и памятуя его опрометчивое суждение о Шопенгауэре, Антонович, в статье о Зайцеве, с видом знатока упрекает последнего за чересчур высокую оценку этого философа. Шопенгауэр, пишет он, был идеалистом, самым плохим идеалистом, идеалистическим философом самого мелкого калибра и самого дурного качества. Если Зайцев позволил себе дурной отзыв о Фихте, то о Шопенгауэре ему следовало-бы выразиться так: «А об этой дряни уж и говорить не стоит, не стоит тратить на нее даже гнилой репы». У Шопенгауэра нет ни системы, ни направления, ни связи, ни последовательности, нет ни одной глубокой философской мысли. Он забыт уже в самой Германии[46 - «Современник», 1865 г., февраль, Промахи, стр. 258.]…
Антонович, Благосветлов и Зайцев обменялись новыми возражениями в том же невероятном тоне, дальше которого, в смысле литературного неприличия, – нельзя было идти. Полемика приняла характер настоящей свалки. Оппоненты говорят друг другу в глаза невероятные вещи, вытаскивают на сцену интимнейшие подробности, не имеющие никакого принципиального значения и, не щадя читающей публики, обзывают друг друга самыми забористыми ругательными словами. Благосветлов не стесняется в определении литературной тактики Антоновича. Он обвиняет его в полемическом шулерстве, в хлестаковщине. «Ах вы, лгунишка! Ах вы, сплетник литературный! кричит он. Вы собираетесь посадить меня на ладонь и показать публике, а я советовал-бы вам спрятаться куда-нибудь в сапог и не показывать ваших бесстыжих глаз ни в редакции Современника, ни своим знакомым». В другом месте Благосветлов обещает поднести Антоновичу «вместе с грязным хвостиком и колпак с ослиными ушами», остроумно называя его при этом хавроньей. В заключение он дает торжественное обещание не входить больше ни в какие объяснения с Антоновичем и сохранить настолько хладнокровия, чтобы не состязаться с своим противником его же оружием[47 - «Русское Слово», 1865 г., февраль, стр. 66-78.].
Зайцев отвечает отдельно Антоновичу и Постороннему Сатирику, как-бы двум различным писателям. На приставания своего противника, по поводу его впечатлений от полемики с «Эпохой», он отвечает довольно решительно. Он убежден в том, что Антонович имел только одну цель – показать свою храбрость, и для этой цели он не пренебрегал никакими ругательствами и даже клеветой. Полемика Антоновича с «Русским Словом» еще более убедила Зайцева, что спрашивать его об идеях и принципиальных соображениях дело совершенно бесплодное. Полемические приемы Антоновича возможны только в той литературе, которая отразила в себе все ужасы последнего трехлетия. Такого же мнения об Антоновиче держатся и два других сотрудника «Русского Слова» – Писарев и Шелгунов, сообщает Зайцев[48 - «Русское Слово», 1865 г., февраль, стр. 57-65.]… Неизвестно, до чего-бы дошла ругательная изобретательность полемистов, если-бы самый способ исключительно словесных пререканий не начал казаться им слишком слабым и недействительным для разрешения этого литературного спора. По несколько туманному и слегка смущенному заявлению, сделанному Антоновичем в марте 1865 года, в полемику вошли новые, реальные факторы: «Опасно полемизировать с теми, пишет он, которые могут послать на вашу квартиру двух огромных детин гайдуков для вашего вразумления», гайдуков, которые «прибегают к таким красноречивым увещаниям, что для удержания их требуются дворники и городовые»[49 - «Современник», 1865 г., март, Литературные мелочи, стр. 216.].
Так закончился первый период борьбы «Современника» с «Русским Словом». Три главных воителя, Антонович, Благосветлов и Зайцев, показали себя с различных сторон. Выступая то с опущенным, то с поднятым забралом, Антонович боролся изо всех сил, одиноко отбиваясь тяжеловесной дубиной от не менее чем он наглых, ничем не стесняющихся и лучше его поставленных в глазах молодого поколения сотрудников «Русского Слова». Развязно шельмуя своих противников, он не сумел при этом, однако, сказать ни единого слова, которое могло-бы примирить его с теми, которые ждали от него оправдания или твердого объяснения по поводу распущенных фельетонов Щедрина. В этой полемике он обнаружил только мелкое, мстительное самолюбие и полную неспособность держаться в споре на почве чисто-литературных интересов. Ни одна заметка его не проникнута каким-нибудь идейным интересом. С первых же шагов он запутывает в спор обстоятельства и счеты, к делу совершенно не относящиеся. Не уважая чужих мнений, он и в своих противниках умел будить только самые низменные страсти, и, оскорбляемые его выходками, они накидывались на него с его же орудиями, но били сильнее, потому что были моложе и свежее его. Благосветлов сразу потерял самообладание и, как мы видели, брызнул целым фонтаном сквернословия. А Зайцев, человек мелкий, наглый и, при всех своих критических и философских претензиях, невежественный, не завлекаясь ни в какие серьезные споры, бойко поддавал коленом…
Писарев, сидевший в это время в крепости, как орленок в клетке, рвался к полемике. Человек с темпераментом бойца, он не мог оставаться спокойным, читая, какими словами Антонович поносил Благосветлова. Фраза Антоновича о том, что Благосветлов есть только «прихвостень» его, Писарева, и Зайцева, разожгла в нем благородное товарищеское чувство. Не имея пока возможности лично сразиться с общим противником, он поручил своей матери, Варваре Писаревой, отдать в «Современник» письмо на имя Николая Алексеевича Некрасова, в котором от его лица делается твердое и решительное заявление, имеющее весьма важное значение для понимания хода умственного развития Писарева, Писарев вступил на почву литературного реализма под влиянием Благосветлова, который оторвал его от его прежних эстетических симпатий. «Своим превращением, пишет Варвара Писарева со слов своего сына, он исключительно обязан Благосветлову. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне Благосветловым. Сын мой видит в Благосветлове не прихвостня, а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты». Никогда Благосветлов не холопствовал перед графом Кушелевым – Безбородко. Если же упрек этот был-бы справедлив, он должен был-бы упасть и на Писарева. Если холопствовал редактор, то должен был холопствовать и его помощник. Позорить Благосветлова и в то же время выгораживать Писарева невозможно: или оба они честные люди, или оба негодяи. «Таково глубокое убеждение моего сына», заключает свое письмо Варвара Писарева[50 - «Современник» 1865 г., март, Письмо в редакцию, стр. 218-220.].
При первой возможности Писарев схватывается с Антоновичем лично. Не входя в рассмотрение всех перипетий первого периода борьбы, он пользуется новыми материалами, чтобы доказать Антоновичу его уклонение с пути Чернышевского. Антонович в это время успел напечатать подробный разбор «Эстетических отношений искусства к действительности», появившихся новым, вторым изданием. В течение десяти лет взгляды Чернышевского успели пустить глубокие корни в русской литературе и в настоящее время есть журналисты, которые доводят их до крайностей, утрируют их в ущерб их действительному смыслу, говорит Антонович. Считая себя одного хранителем философских традиций Чернышевского, Антонович полагает нужным изложить его эстетическую теорию в её первоначальном виде, как «она вышла из рук её основателя или насадителя на русской почве». Но пространно передавая эстетические понятия Чернышевского, Антонович, быть может, не заметно для самого себя, прибавляет кое-какие черты к тому, что было впервые напечатано в магистерской диссертации Чернышевского, принимая при этом тон «рационального» оппонента «рьяным, но не слишком рациональным» последователям этой новой теории. В последнее время, пишет Антонович, некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассудительности дошли до того, что стали восставать против искусства и эстетического наслаждения вообще. По мнению Антоновича, такой «аскетический» взгляд на искусство понятен и возможен только у людей, которые тенденциозно придумывают разные кодексы человеческих обязанностей, не считаясь при этом с реальными свойствами и потребностями человеческой натуры. «Эстетическое наслаждение есть нормальная потребность… Искусство, как удовлетворение этой потребности, полезно, если бы оно даже ничего не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим высшим целям»[51 - «Современник» 1865 г., март, Современная эстетическая теория, стр. 68.]. Подобными оговорками Антонович обставляет свое изложение «Эстетических отношений», явным образом бросая полемические стрелы в сторону Писарева. Этим маневром критик «Современника» думал смутить своих противников, обвинив их в том, что они искажают идеи Чернышевского, который, будто-бы, вовсе не отрицал эстетики, эстетических наслаждений и важности «искусства дли искусства». Придавая диссертации Чернышевского более широкий и толерантный смысл, Антонович этим самым однако давал такому противнику, как Писарев, очень опасное оружие против себя. Выводы из сочинения Чернышевского, беспристрастно сделанные, могли быть только разрушительными по отношению к искусству, и Писареву не стоило особенного труда показать все отклонения Антоновича от утилитарного реализма Чернышевского. Опираясь на собственное понимание трактата Чернышевского, Писарев спорил по этому поводу с Антоновичем, имея в виду не только подлинные выражения и слова того, кого считал своим авторитетом, но дух и общие стремления всей его философской деятельности, которая не допускала никакого компромисса хотя бы с самыми слабыми оттенками идеалистических понятий. Он развивает доктрину Чернышевского именно в том направлении, которое наиболее соответствовало реалистическим тенденциям эпохи. Другими материалами Писарев не пользовался. Но если бы он пожелал, он мог бы, в дополнение к знаменитому трактату Чернышевского, воспользоваться еще и другим его трудом, а именно критическим разбором «Эстетических отношений», напечатанным в июньской книге «Современника» в 1855 году, в год выхода трактата, за подписью Н. П., но, по несомненно верному в данном случае заявлению Антоновича, принадлежащим – как это ни странно сказать – самому Чернышевскому. Рецензент, руководимый, по комментарию Антоновича, желанием дать ход своим идеям, рискнул представить критический реферат, о своем труде, при чем он «с достоинством и беспристрастием указал, как на хорошие стороны, так и на некоторые упущения в своем сочинении»[52 - «Современник» 1865 г., март, Литературные мелочи, стр. 209.]. С удивительным самообладанием решительного и несколько коварного агитатора, не пренебрегающего для завоевания умов никакими средствами, Чернышевский выдает своему трактату, отвергнутому официальною русскою наукою, диплом от лица настоящей передовой философии. В своей рецензии он хочет показать, «до какой степени верно» Чернышевский сделал приложение к частной области эстетических понятий общих воззрений науки. «В средоточии дела», в системе современных философских идей можно найти полное оправдание тому, что излагается в «Эстетических отношениях». Автор, говорится в рецензии, обнаруживает способность различать в известных понятиях элементы, согласные с воззрениями современной науки, и элементы, с ними несогласные. «Его теория имеет внутреннее единство характера». В ней все принадлежит положительной науке, хотя надлежащими примерами ее можно было бы поставить в связь «с интересами дня, которые занимают столь многих…»[53 - «Современник» 1855 г., июнь, Критика, стр. 23-54.].
В «Эстетических отношениях» нет настоящего изложения той современной философии, именем которой Чернышевский защищает Чернышевского, но не подлежит сомнению, что, опираясь на эту философию, в том виде, в каком – судя по дальнейшим его статьям, – представлял ее себе Чернышевский, Писарев мог бы доказать свою полную правоту и последовательность в споре с Антоновичем. На его стороне были идеи века, а дух учителя, еще живого, по уже отдаленного от своих верных учеников, витал над поколением молодых писателей, призывая к окончательному, беспощадному разрушению праздной эстетики. Антонович, уже обнаруживший совершенное непонимание молодых продолжателей Чернышевского, теперь показал, что он никогда глубоко не понимал и самого Чернышевского, с его во всем радикальными, прямолинейными стремлениями, с его темпераментом бестрепетного разрушителя, с его узким, односторонним, но фанатически непреклонным умом.
Писарев откликнулся на многочисленные выходки Антоновича сначала в статьях «Прогулка по садам Российской словесности» и «Разрушение эстетики», а потом, сразившись с «Современником» по вопросу об «Эстетических отношениях», дал пространный, горячо написанный ответ на полемические статьи Антоновича, «Промахи» и «Лжереалисты» – в статье под названием «Посмотрим», заключившей борьбу обоих журналов. И каждое из возражений Писарева проникнуто сильным чувством убежденного человека. Он нападает на Антоновича со страстью партизана известной доктрины, которую его противник унизил своим фальшивым заступничеством. Антонович оскорбляет его чувство порядочности своею полемическою невоздержностью и клеветническими приемами. У него нет самостоятельного миросозерцания, нет Щедринской веселости, которая умела осмеивать то, чего она не понимала, – и вот он собирает, вместо логических аргументов, в споре с своими противниками всякого рода сплетни и небылицы. У Антоновича не хватает честности отказаться от своего «Асмодея», и защищая проигранное дело, он запутывается в софизмах и заводит критику «Современника» в те дебри, в которых гнездится русское филистерство. Он сыплет целыми лукошками самого неблаговидного лганья и, чтобы оборонить свою репутацию, взваливает ответственность за свою нелепую статью о Тургеневе на Чернышевского, который, приняв ее для печати, тем самым будто-бы выразил свою солидарность с нею[54 - «Русское Слово» 1865 года, март, Прогулка по садам. Глава XI, стр. 63-68.].
В статье «Разрушение эстетики» Писарев вооружается против сделанного Антоновичем изложения трактата Чернышевского, доказывая, что автор его имел в виду полное истребление старой и вообще всякой эстетической теории. Эта цель сквозит во всех определениях Чернышевского, в его смелом и решительном анализе различных эстетических учений, и она могла быть превратно истолкована только филистерами или «самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова». Если Чернышевский пользуется в своем сочинении старыми терминами, то он делает это только потому, что в 1855 году русское общество не было еще подготовлено к пониманию его плодотворных идей. Но теперь, через десять лет, надо сделать явною главную тенденцию Чернышевского. Пришла пора двинуть в жизнь эту разрушительную силу, чтобы добиться от литературы иных эффектов, иного воздействия на общественную жизнь. Но что же делает Антонович с сочинением Чернышевского? Поворачивая «Современник» назад, в тихую область безмятежного искусства, и сознавая недостаточность своих собственных сил для произведения такой реакции, он в своем отступлении хочет прикрыться «Эстетическими отношениями». Он хочет доказать, что мысли Чернышевского в настоящее время утрируются. Чтобы образумить чересчур рьяных последователей новой доктрины, он старается затормозить их порывы яко-бы словами самого Чернышевского. Он хотел-бы, чтобы известная книга залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль, и чтобы «Эстетические отношения» сами разрушили то дело, которое они создали! «О, г. Антонович! О, гениальный г. Антонович!» иронически восклицает Писарев. «Вы себе даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то некоторых. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал Современник. Писарев обвиняет своего противника в нравственной „приземистости“, которая не позволяет ему идти в общем движении эпохи, в неспособности работать по страсти, в умственной дряхлости. В его эстетических воззрениях, изложенных в рецензии на книгу Чернышевского, он не видит ничего такого, что давало-бы ему повод раздираться с Страховым, Incognito, Аверкиевым и Н. Соловьевым. Его новая реклама в пользу искусства, издевается Писарев, заслуживает „филистерских бесешек“ этих людей, работающих в журналах с иным направлением, чем „Современник“».
В двух статьях, направленных против Писарева[55 - «Русское Слово» 1865 г., май, «Разрушение эстетики», стр. 31.], Антонович глумится с обычною грубостью над критиком «Русского Слова». Все литературные статьи Писарева не больше, как фанфаронада, пустое фразерство, вводящее в заблуждение молодые умы, и для пользы литературы необходимо разрушить его пьедестальчик как можно скорее. У Писарева, этого «лучшего цветка в саду реализма», нет ничего: ни самостоятельного миросозерцания, ни каких-нибудь серьезных критических преданий. Он отрекается от Добролюбова и доводит до абсурда рациональную теорию Чернышевского. За ним стоит Благосветлов, его наставник, его друг, он недоношенное детище Благосветлова. Разбирая статьи Писарева о «Нерешенном вопросе», Антоновича в сотый раз повторяет, что Базаров – карикатура, сочиненная на молодое поколение, и что Писарев, восхваляя «Отцов и детей», встал под то самое знамя, под которое радостно бежало все отсталое, обскурантное, своекорыстное, пошлое. «Русское Слово» шло за триумфальной колесницей Тургенева, которому «Современник» никогда не простит его литературного преступления. «Современник» всегда будет гордиться тем, что он не участвовал в этом позорном торжестве[56 - «Современник» 1865 года, апрель, стр. 315.]. «Понимательная» способность Писарева слаба и неудовлетворительна. Вот почему он так обрадовался Тургеневу, который оказался ему по силам. Вот почему он ухватился за Базарова, – за эту первую «реалистическую штуку, которую он мог осилить и понять». О, недоносок Благосветловский! О, недоразвившееся дитя Тургенева! О, скудоумный Писарев![57 - Там же июль, «Лже-реалисты», стр. 74.]…
Писарев в громадной статье «Посмотрим» опровергает все возражения Антоновича. С достоинством умного и талантливого писателя он выражает сожаление, что употребил в статье «Нерешенный вопрос» чересчур резкое выражение против Антоновича (лукошко глубокомыслия). Имея дело с противником, готовым, в случае надобности, прибегнуть к «фальсификации печатных документов», он, по естественному чувству протеста и человеческого негодования, схватился за то орудие, которым боролись с Антоновичем его товарищи, Благосветлов и Зайцев. Полемика приняла характер дикой оргии, но теперь он намерен шаг за шагом проследить все аргументы «Современника», дать им оценку, сличить их с собственными доказательствами и, выведя все дело на полный свет общественного мнения, сказать последнее слово своему противнику, до будущей, вероятно не близкой, схватки. В точных и ясных выражениях он определяет свое отношение к Благосветлову, еще раз обрисовывает реалистическую теорию, свой взгляд на Базарова и отношение к Добролюбову и Чернышевскому. Горячий сторонник старого «Современника», он никогда однако не жертвовал своею самостоятельною критикою и потому смело расходился с Добролюбовым в тех случаях, когда он находил его взгляд неверным и неосновательным. Он не согласился с его оценкой романа Тургенева «Накануне», он резко разошелся с ним в понимании таланта-Писемского, к которому Добролюбов относился с полнейшим и отчасти даже афектированным пренебрежением. Он оценил по своему и опять-таки в разрез с критикою Добролюбова стихотворные произведения Фета и Полонского. никто не имеет права называть его горячим приверженцем Добролюбова: он никогда им не был, хотя всегда считал Добролюбова очень умным и очень честным человеком. Антонович не понимает, что можно уважать писателя и в то же время расходиться с ним во мнениях, и следует только пожалеть, что роль первого критика в «Современнике» досталась такому ограниченному человеку[58 - «Русское Слово» 1865 г., сентябрь. Посмотрим, стр. 14.].
На этом закончилась полемика двух журналов. В борьбе «Русского Слова» с «Современником» обе стороны оказались виноватыми в нарушении литературных приличий, но победа, без всякого сомнения, осталась за тем журналом, в котором работал Писарев. Это был момент настоящего расцвета молодого журнала, в котором и раньше статьи Писарева возбуждали всеобщий интерес публики. Радикальное знамя было отбито у «Современника», и на поле журналистики «Русское Слово» могло считаться в то время лучшим выразителем стремлений молодого общества. Экономические статьи Н. Соколова, поверхностного знатока предмета, но бойкого и разудалого реалиста на экономической почве, постоянные статьи Н. Шелгунова, Щапова, Ткачева, Флоринского, беллетристические работы Шеллера, Бажина, Потанина, Глеба Успенского, и во главе каждой книги критические статьи Писарева и Зайцева, – не могли не содействовать полному и широкому успеху журнала в публике с передовыми запросами эпохи. Журнал читался на-расхват, и каждая новая статья Писарева, уже ставшего идолом толпы, возбуждала шумные толки во всех слоях общества. Потребность в человеке, который заменил-бы Чернышевского, который вел-бы смелою рукою молодые поколения, нашла себе полное удовлетворение в его ярком таланте, без философской глубины, но с порывами свободной души, не признающей никаких авторитетов, беспощадно осмеивающей всякую рутину, объявляющей войну всяким предрассудкам. В исторический момент пересмотра всех основ русской жизни его бурная, разрушительная деятельность, не руководимая ни в какой области никакими точными, научно-обоснованными, положительными критериями, но проносившаяся удалым призывом над толпою, едва приходящею в движение и отряхающею с себя тяжелую дремоту долголетнего бездействия, должна была вызвать общее сочувствие. «Русское Слово» съумело воспользоваться моментом, и, если-бы не правительственное запрещение в 1866 году, оно, несмотря на некоторые неизбежные пертурбации в составе сотрудников, на выход из их числа Зайцева и Соколова, огласивших в печати свои пререкания с Благосветловым и на очень короткое время привлекших на свою сторону даже Писарева, журнал занял-бы в обществе место прежнего «Современника». Благосветлов был несомненно практичным и умелым редактором, а к его услугам были все выдающиеся таланты известного направления.
А «Современник» быстро склонялся к полному упадку. Потолковав с читателем в защиту своей полемической разнузданности, еще раз схватившись с Краевским, прогулявшись по брошюре Кавелина «Мысли о современных научных направлениях» и возразив газете Аксакова на её во многих отношениях справедливые нападки, Антонович закончил свою деятельность в 1865 году компилятивною статьею об умственных движениях в XIX веке, при всеобщем протесте печати и публики. Ни одно живое общество, в котором еще не притупилось окончательно чувство нравственной брезгливости, не могло не отвернуться от этого печального героя нескольких скандальных историй с лучшими тогдашними журналами – «Временем», «Эпохою» и «Русским Словом». «Отечественные Записки», не принимавшие в этой борьбе партий активного участия, в нескольких статьях выражали свое презрительное отношение к полемической тактике воюющих сторон. Наше передовое движение, писали они, не есть чисто литературное движение. По самой глубокой своей сущности, говорил не безызвестный в то время писатель Зарин, скрывший свою фамилию под псевдонимом Incognito, оно скорее анти-литературное движение[59 - «Отечественные Записки», 1865 г., т. CLVIII, Предисловие к литературному обозрению, стр. 714.]. Иронизируя над полемическими бойцами из «Современника» и «Русского Слова», этот писатель приводит по пунктам все verba novissima, которые были пущены ими друг в друга. «Противники до того одушевились, что, по сильному выражению одного литератора, в небесах небес заря загорелась». Обозрев все стадии этой междоусобной войны в среде радикальной партии, Зарин заключает свой фельетон следующим меланхолическим рассказом, не без яда рисующим положение современного читателя. Однажды он провел в глубоких размышлениях бессонную ночь вплоть до ясной зари. Когда небо побагровело на востоке, он услышал над самою крышею какой-то гогот и тяжелое маханье крыльев, на подобие тех, которые издаются стаями низко летящих диких гусей. Он поспешил открыть окно: то были действительно стаи, но не гусей… они летели с противоположных сторон, с севера и с юга, но направлялись как будто к одному пункту, исхудалые и голодные. Очутившись одна от другой на полет стрелы, они обменялись вопросами и ответами: «Товарищи, откуда?» – «Из Русского Слова», – «Из Современника». То были стаи молодого поколения, улетавшие от уважаемых прежде журналов…[60 - «Отечественные Записки», 1865 г., т. CLXI, Verba novissima, стр. 173.].
Газета Аксакова «День» следила за полемикою в своем критическом отделе, и когда Антонович разразился своими знаменитыми бутербродами, сотрудник её П. Б. справедливо сказал, что новый дух, веющий в «Современнике», – только духота от миазмов его разложения и гниения[61 - «День» 1865 г., № 17, Журнальные заметки, стр. 411.].
В ответ на все эти печатные толки «Современник», странным образом воспользовавшись освобождением из под предварительной цензуры, решился беспристрастно оглядеть все свое прошлое. В августе 1865 года он печатает передовую статью под названием «Итоги». По неточному объяснению журнала, который очевидным образом круто сворачивал на совершенно безобидную дорогу, «Современник» с самого начала вращался в кругу интересов, отнюдь не имеющих характера политической оппозиции, и эта воздержность не была вовсе случайною, а «вытекала из сущности самого его взгляда на свое дело». Оппозиционная литература менее всего касалась вопросов политических, и когда «Русский Вестник» стал увлекаться политическим англоманством, она «только осмеивала конституционные вирши этой литературы». Она не признавала политического вопроса первостепенным и потому соглашалась с мнениями тех, которые утверждают, что «всякое общество получает на деле только то, чего оно стоит, что администрация, законодательство и проч. на столько же бывает чисто, справедливо и совершенно, на сколько чисто, совершенно и справедливо само общество, его взгляды и требования». Она полагала, что общество должно исправиться первое – и потому вела агитацию только на эстетической и научной почве. С нигилизмом «Современник» никогда не хотел иметь ничего общего, и когда Щедрин насмеялся над вислоухими и нигилистами, журнал поступил согласно с своей программой. С «Русским Словом» «Современник» порвал вследствие принципиальных соображений, предоставив ему вносить в молодое общество дух опошления за собственный счета и не желая нести ответственности за его деятельность пред русскою литературою[62 - «Современник» 1865 г., август, Итоги, стр. 297-332.].
В 1866 г. «Современник» уже не представлял из себя ничего интересного в каком-бы то ни было отношении. Он прекратил свое существование в связи с жгучими событиями дня, отголосок которых мы находим в Апрельской книге в «Современном обозрении» и в патриотическом стихотворении Некрасова «Осипу Ивановичу Коммиссарову».
Я цензуру приумножил.
Нигилистов уничтожил!
Землю русскую стрепожмл.
(Закатывается и не понимает сам, что говорит).
Ножил! ножил! ножил! ножил!
Мих. Змиев-Младенцев[25 - «Современник», 1863, Апрель, Свисток, стр. 71-72.].
Среди стихотворных произведений Саввы Намордникова, Смарагда Бриллиантова, Фердинанда Тюльпанензона, Владимира Монументова и Михаила Антиспатова, украшающих последний номер «Свистка», это стихотворение является настоящим диким, но пышным цветком среди блеклой и сухой травы бессильных сатирических упражнений.
В следующих книгах «Современника» Щедрин, задевая по пути множество вопросов из текущей жизни, злобно и с ехидством полемизирует с Громекою, отражая его пылкия по форме, но бледные по содержанию публицистические нападения с искусственным уподоблением нигилизма внезапно разорвавшейся бомбе. С необычайною энергиею Щедрин формулирует несколько вопросов для редакции «Отечественных Записок» и затем, выслушав через некоторое время ответ этого журнала в майской книге[26 - «Отечественные Записки», 1863, Май, Заметка для редакции «Современника», стр. 190-194.], вновь и окончательно отбрасывает от себя противника, у которого не было ни сколько-нибудь заметного таланта, ни особенного политического такта для борьбы с таким выдающимся по литературному дарованию соперником[27 - «Современник», 1863, Сентябрь, Наша общественная жизнь, стр. 147.]. Вообще его фельетоны этого года захватывали русскую жизнь с разных сторон и представляли единственный отдел журнала, в котором трактовались события дня бойко, ярко, ядовито, с массою комических иллюстраций, вызывавших веселый смех во всей читающей публике. Сатира Щедрина, еще не определившаяся в своем направлении, хлестала насмешкой во все стороны, никого не щадя, не сообразуясь ни с какими партийными лозунгами, руководясь одним только убеждением, выраженным с обычною силою в характерном слоге, что вдохновенные глупцы едва-ли не вреднее, чем плуты, промышляющие ложью с сознанием[28 - «Современник», 1863, Август, В деревне, стр. 175.]. Все литературные кружки могли остаться недовольными статьями талантливого автора, от которого ожидали совершенно иных полемических приемов. Ударяя направо и налево и при этом не давая никакого положительного материала для верного суждения о его собственных политических и нравственных убеждениях, Щедрин сам подготовлял против себя журнальную реакцию. Радикальная партия «Русского Слова» прямо шокировалась этими фельетонами с их двусмысленными суждениями о молодом поколении, которыми Щедрин так неудачно закончил свою журнальную деятельность в «Современнике» 1863 г. Как должны были истолковать молодые радикальные деятели печати фразу Щедрина, что «так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном, диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты», что со временем «из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны»[29 - «Современник», 1863, Декабрь, Наша общественная жизнь, стр. 240.]? Положительного сочувствия к новому движению в этих подозрительных, обоюдоострых определениях никто не мог-бы увидеть. Разные комические сцены, написанные со смехом над российскими постепеновцами, отрицающими всякие исторические прыжки по пути прогресса[30 - Там же, 1863, Ноябрь, Наша общественная жизнь («Ну, нет, прыгать я не согласен!»), стр. 161-164.], не выкупали явных пробелов фельетонной сатиры Щедрина в отношении политической тенденции «Современника». Над его головою собирались грозные, полные электричества тучи. Люди с выдержанным направлением должны были раздражаться его беспринципным издевательством над всеми явлениями русской жизни и тем сочувствием, которое оказывала Щедрину пестрая толпа, падкая ко всякому шумному и бесцеремонному балагурству. Катков не замедлил, со свойственной ему злобною силою, обрисовать характер всей его журнальной деятельности 1863 года. В одном из первых номеров «Современной летописи» 1864 года мы находим следующие энергические, приправленные реакционным перцем, слова о сатирических приемах и манерах Щедрина. Все его писания Катков называет пустословием, которое производит впечатление только потому, что на него накинута цензурная мантия, заставляющая неопытного читателя думать, что самое лучшее осталось вне круга, очерченного роковым «дозволено цензурою». «Цензура, восклицает Катков, – вот жизненный элексир либеральной петербургской прессы. Представьте себе, что нет цензуры, и читатель пробегает например курьезные страницы, помещенные в последнем No „Современника“ под заглавием Ниша общественная жизнь-. он, конечно, ни минуты не затруднился-бы сказать, что это чепуха, и что ровно никакого смысла нет ни в этом рассказе о каких-то шалунах, появляющихся, когда начинается брожение в накопленных веками кучах хлама, и к числу которых причисляется Нерон, Калигула, какой-то исправник, вошедший в суд с собаками, ни в этих размышлениях о науке, от которой, но словам каких-то молодых людей, ни на волос толку не оказалось»[31 - «Современная Летопись», 1864 № 2. Роман на берегах Невы. стр. 12-13.]. Под сенью цензуры, пишет с лукавством этот усердный ревнитель строгих цензурных уставов, чепуха превращается в некоторого рода апокалипсис нового учения. Фразы Каткова, всегда производившие на публику известное впечатление, должны были насторожить радикальную печать, которую он всегда умел так или иначе взбудоражить и расстроить, возбуждая в ней междоусобные распри, а тут еще подошел эфектный, истинно скандальный случай, поднявший на ноги всю молодую когорту «Русского Слова». Январьский фельетон Щедрина 1864 г. в «Современнике» окончательно погубил радикальную репутацию журнала и вызвал против него целую кампанию со стороны публицистов, явившихся настоящими продолжателями Добролюбова и Чернышевского. Тучи, все более и более сгущавшиеся над «Современником», наконец, разразились настоящей грозой и яркая молния молодого таланта Писарева опалила и свалила на земь этот старый и уже дуплистый дуб. Журнал, который столько лет шел впереди всей периодической печати, лишенный своих главных, лучших творцов и работников, не мог долго просуществовать в руках людей без настоящей идейной выдержки. Именно здесь, в «Современнике», колебание и шатание известных традиций должно было особенно бросаться в глаза по контрасту с его недавним прошлым. Малейшая публицистическая оплошность, малейшее противоречие, простительное для какого-нибудь менее определившегося журнала, выступало здесь с особенной резкостью, зажигая негодование в обществе, дисциплинированном и привыкшем мыслить в известном направлении. Именно Щедрин, с его огромным талантом, при отсутствии духовной цельности и строгой умственной школы, оказался тем человеком, который, в стихийном охмелении, грубо разметал и растоптал важнейшие принципы с фанатической страстью продуманного и выстраданного журнального устава.
Сатирик «Современника» – странно сказать – насмеялся над романом Чернышевского и хватил в два кнута по нигилистке и нигилисту!
III
В январе 1864 г. Щедрин возвращается к разговору о молодом поколении. Среди разных малопонятных иносказаний он обращается вдруг к современному молодому поколению с следующими не то проническими, не то патетическими словами: «о, птенцы, внемлите мне!.. Вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши, вы все, стучащие и ни до чего не достукивающиеся, просящие и не получающие – все вы можете успокоиться и прекратить вашу игру». Никакая чаша ни откуда не сойдет по той причине, что она давно уже стоить на столе. Ничто не раскроется перед этими птенцами, потому что жизнь дается только тем, кто подходит к ней в «благопристойной одежде». «Ждите же, птенцы, и помните, что на человеческом языке есть прекрасное слово со временем, которое в себе одном заключает всю суть человеческой мудрости»… Это – великое слово, которое должно утешить всякого, кто кстати употребит его. «Когда я вспоминаю, например, пишет Щедрин, что со временем дети будут рождать отцов, а яйца будут учить куриц, что со временем зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что со временем милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать: Ни о нем я, Дуня, не тужила (ибо со временем, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтобы до тех пор совесть моя была чиста». Затем, как-бы разгулявшись на счет нигилистки, Щедрин набрасывает следующую удивительную сцену, пригодную для обличительно-консервативного романа. Недавно, говорит он, одна нигилистка, вся содрогаясь от негодования, рассказывала ему, что она была в опере и, по обыкновению, обитала в пятом ярусе, а между тем пресловутая Шарлотта Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала в бель-этаже и «бесстыдно предъявляла алкающей публике свои обнаженные плечи и мятежный груди вал».
– И как она смела, эта скверная! визгливо заключила рассказчица, топая ножкой.
– Да вам-то что до этого?
– Помилуйте! я, честная нигилистка, задыхаюсь в пятом ярусе, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественного темперамента… смеет всенародно показывать свои плечи… Где же тут справедливость? И неужели правительство не обратит, наконец, на это внимания.
Собеседник стал доказывать нигилистке, что если Шарлотта Ивановна имеет возможность сидеть в бель-этаже, то ведь за то она не обладает чистой совестью и что она, нигилистка, обладает чистой совестью и, в виде поправки, осуждена на сидение в пятом ярусе.
– Ну, согласились-ли бы вы променять вашу чистую совесть на ложу в бель-этаже?
– Конечно, нет! отвечала она, но как-то так невнятно, что пришлось повторить вопрос.
Изобразив в этом двусмысленном свете нигилистку, сатирик тут же выводит на сцену столь же двусмысленного нигилиста, готового отстать от всего, что автор называет жизненными трепетаниями, чтобы присосаться к житейскому пирогу. На замечания автора, что его рассуждения слишком смахивают на то, что пишется в «Русском Вестнике», нигилист с каким-то меланхолическим цинизмом замечает: «Э, батюшка! все там будем». В заключение этого пассажа Щедрин с злорадным юмором восклицает: «Я сказал вещь резонную, когда утверждал, что нигилисты не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты»[32 - «Современник» 1844, январь, Наша общественная жизнь, стр. 25-28.].
Вот несколько страниц, на которых, так сказать, окончательно переломилась история «Современника». В словах «современен, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет», Щедрин пародировал роман Чернышевского, и это было сейчас же отмечено в печати. «Как известно! восклицает Страхов в октябрьской книге Эпохи 1864 г. Несчастный! Откуда это известно? Это могло быть известно только из одной книги, – из романа Что делать»! Злобные насмешки над нигилистами немедленно вызвали энергический отпор со стороны «Русского Слова». В февральской книге этого журнала мы находим две статьи, направленные против Щедрина: одна, В. Зайцева – «Глуповцы, попавшие в Современник», другая Писарева – «Цветы невинного юмора». С возмущенным чувством оскорбленного в своих лучших симпатиях человека, Зайцев накидывается на Щедрина с грубыми словами, взывая к блюстителям направленских идей «Современника». Он резко бичует Щедрина за его последний фельетон и, подозревая в нем скрытого сторонника Каткова, старается сорвать с него радикальную маску. Ему представляется, что Щедрин притворно рядился в костюм Добролюбова, «прежде, чем предстать пред публикой в своем собственном рубище будирующего сановника». Но желая ударить его по мнимой маске, Зайцев грубо задевает его человеческую личность, заявляя, что молодое поколение брезгает разделять эти подонки остроумия игривых экс-администраторов. Зайцев не обратил-бы внимания на проделки Щедрина, если-бы он «выделывал свои курбеты» где-нибудь в другом месте. Но нельзя равнодушно смотреть, пишет он, обращаясь к фельетонисту, как вы администраторствуете на тех самых страницах, где еще так недавно мы прочли Что делать. Омерзительно видеть самодовольного балагура, дошедшего из любви к беспричинному смеху до осмеиванья того, чем был вчера, и провозглашающего глуповскую мораль в роде следующей: «яйца куриц не учат». Бросайте Добролюбова! ехидно восклицает Зайцев: ведь он принадлежал к птенцам. Отвернитесь от Чернышевского: ведь вас разбирает смех по поводу его романа «Что делать»!.. Щедрин юмористически намекает на смелую беллетристическую утопию «Современника», изображая нигилистку, рассекающую труп с припевом Ни о чем я, Дуня, не тужила. По где это видано было, чтобы какой-нибудь администратор издевался над учреждением, украшаемым его собственной персоной! Зайцев дает волю своему негодованию. Деятели «Русского Слова» всегда сочувствовали «Современнику» и, чуждые барышнических рассчетов, никогда не умалчивали, что это лучший из русских журналов. «Современник» Добролюбовым и Чернышевским возведен на настоящую авторитетную высоту. Он руководит молодым поколением. И вот почему он, Зайцев, считает себя в праве обратить внимание уважаемых сотрудников Современника на новое направление, придаваемое этому журналу Щедриным. «Прошу их вспомнить, пишет он, обличения, которыми они часто преследовали литературное ренегатство, и заметить, что Современник находится в эту минуту на весьма скользком пути. После Добролюбова, каждое слово которого было запечатлено горячей симпатией к прогрессивной части русского общества, после Что делать, в котором не видно ни малейшего желания лизоблюдничать – было-бы прискорбно видеть Современник подражающим Русскому Вестнику в брани и злобе на все, что старается высвободиться из под рутины и дышать по человечески». Зачем не смотрит Антонович за Щедриным, Антонович, обрушившийся на Тургенева за его несочувствие к птенцам? Куда девался Пыпин, тот самый Пыпин, который не может издать книжки, не упрекнув в предисловии Тургенева «за пренебрежительный отзыв его об изучении молодежью естественных наук»: придирки Тургенева – верх голубиной кротости сравнительно «с рычащими лесным воем остротами» игривого экс-администратора, издевающегося в «Современнике» над «милыми нигилистками». Журнал, уважающий себя, заключает Зайцев, не может совместить в себе тенденции остроумного фельетониста с идеями Добролюбова. Надо выбирать одно из двух: или идти за Чернышевским, или смеяться над ним[33 - «Русское Слово», 1834 г., февраль, Глуповцы стр. 34-42.]….
В той же книжке «Русского Слова» Писарев в резкой, но талантливо написанной статье производит критическую оценку всей литературной деятельности Щедрина. По мнению критика, Щедрин с полною справедливостью может быть назван одним из представителей чистого искусства в его новейшем видоизменении. В его произведениях не видно любви к определенной идее, не слышно голоса взволнованного чувства. Принимаясь за перо, он не думает о том, куда хватит его обличительная стрела – в своих или чужих, в титулярных советников или в нигилистов. Он пишет рассказы, обличает неправду, смешит читателя, потому что умеет писать легко и игриво, обладает огромным запасом диковинных материалов и любит потешиться с добродушным читателем над комическими явлениями Жизни. Вот почему его сатира в высшей степени безвредна, даже приятна для чтения, даже полезна с гигиенической точки зрения, потому что помогает пищеварению. Вот почему в ней не слышатся никакие грустные и серьезные ноты, как у Диккенса, Теккерея, Гейне, Гоголя и вообще у всех «не действительно-статских, а действительно замечательных юмористов». Измените слегка его манеру изложения, отбросьте шалости языка и конструкции, и вы увидите, что юмористический букет в писаниях Щедрина значительно выдохнется. Когда Щедрин только что начал свою литературную карьеру, при первых ракетах его забавного остроумия, провинциальные чиновники сначала слегка переконфузились. Они подумали, что эти первые проблески таланта служат предвестниками сатирического грома. Но гром не грянул, и догадливые провинциалы успокоились, возлюбили веселого Щедрина и продолжают побить его вплоть до настоящего времени. При всей глубокой невинности и несложности тех пружин, которыми Щедрин «надрывает животики почтеннейшей публике», он никогда не действует открыто, просто. Секрет его тактики состоит в том, пишет Писарев, повторяя отзыв Каткова, чтобы говорить неясно, давая чувствовать, что у него остается что-то невысказанное. В его сочинениях, во всех без исключения, нет ни одной новой идеи, но каждая идея показывается в них из под полы с таинственными предосторожностями и лукавыми подмигиваниями, с видом особенно глубокомысленным. Сам Щедрин постоянно выступает в позе завзятого прогрессиста, но соскоблите лак с его произведений – и вы увидите невинность. Скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и везде вы встретите одно и то же – невинность да невинность, угнетенную по недоразумению, угнетенную потому, что «угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки». Щедрин заимствовал из Добролюбовского «Свистка» манеру относиться недоверчиво к нашему официальному прогрессу, но естественный, живой и сознательный скептицизм Добролюбова превратился у его подражателя в пустой знак, в кокарду, которую он пришпиливает к своим рассказам, чтобы сообщить им колорит безукоризненной прогрессивности. Благодаря этому маневру, он приобрел сочувствие молодежи, с которою у него нет ничего общего. «Но мне кажется, заявляет Писарев, что сочувствие это необдуманно и не проверено критическим анализом». Молодежь смеется, читая Щедрина. Молодежь привыкла встречать его имя на страницах лучшего русского журнала и потому ей не приходит в голову отнестись к своим впечатлениям с недоверием и критикой. «Но мне кажется, что влияние Щедрина на молодежь может быть только вредным, и на этом основании я стараюсь разрушить пьедестальчик этого маленького кумира, и произвожу эту отрицательную работу с особенным усердием»[34 - «Русское Слово», 1864, Февраль, Цвети невинного юмора, стр. 33.] Затем Писарев, в пылу своего искреннего увлечения естественными науками, советует Щедрину бросить Глупов и заняться популяризированием европейских идей естествознания и антропологии. Пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, заключает он свою статью, и тогда он будет действительно полезным писателем при его уменье владеть русским языком и писать живо, весело.
Эти две статьи «Русского Слова» глубоко уязвили Щедрина, и он рванулся на своих противников – по выражению «Отечественных Записок», с тележной оглоблей в руках. Все самые грубые и неприличные ругательства, не имеющие сами по себе никакого смысла, были пущены в ход. Желая поддержать авторитетный тон «Современника», он высокомерно третирует злобствующих «мальчиков», этих «новых Колумбов, искусно отыскивающих принципы в мире яичницы и ерунды». Потеряв душевное равновесие, Щедрин разливает целые потоки хулы и сквернословия, называя современное молодое поколение «ядовитой слизью, которая незаметно заползает всюду и разъедает все, к чему бы ни прикоснулась». Мальчики, говорит он, кишмя кишат в этом мире и ловко подставляют ногу всему, что не смотрит на жизнь, как на милую безделицу. Они идут по дороге жизни, подплясывая, продолжает он, сваливая грех с больной головы на здоровую, они высовывают толпе язык и в то же время ловко выкрадывают друг у друга лакомые куски. «Это целая каста, в которой трепещет и бьется один принцип – неименье никаких принципов». Приходя мало помалу все в большее бешенство, он разражается между прочим следующими постыдными фразами: «Не поленитесь наблюсти когда-нибудь, говорит он, за улыбками мальчика, за его пожатием руки, всмотритесь в разнообразные оттенки тех и других, и вы без труда догадаетесь, что это за канальский зародыш. В этих улыбках откроется для вас весь внутренний мир этой, если можно так выразиться, заживо разлагающейся душонки, со всем её тайным высокомерием»… Обращаясь к новым, оскорбившим его деятелям печати.
Щедрин называет их вислоухими и юродствующими, которые «с ухорскою развязностью» прикомандировывают себя к прогрессивному делу. Эти люди, пишет он, считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление, общее всем векам и странам. Эти люди серьезно готовы признать «болтуна Базарова» за тип современного прогрессиста. Переходя к самым статьям Зайцева и Писарева, пишущих в «невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды», Щедрин рассказывает своим читателям, какую бурю поднял его прошедший фельетон в мире «вислоухих, юродствующих, лилипутов» – его безобидный фельетон, имевший целью сказать правдивое слово о молодом поколении, «захламощенном различными услужливыми ревнителями». Но он никогда не самообольщался на счет вислоухих. Он всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, к которому прикоснутся, «подобно тому, как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную». Надо оградить общество от горлопанов, юродствующих и вислоухих «с их скудным запасом умственных способностей». Вислоухие рисуются демократизмом, но весь их демократизм состоит в том, что «они ходят в поддевке и сморкаются без помощи платка». Они рисуются нигилизмом, но нигилизм свой доказывают только тем, что готовы во всякое время дня выбежать голыми на улицу. Они считают себя социалистами, но «Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь, как на увеселительное заведение с пением и плясками!» Они ругают его, Щедрина, за несколько критических замечаний о романе Чернышевского, а между тем всякий разумный человек, читая этот роман, «сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей.» Вислоухие обходят существенное содержание «Что делать» и приударяют на счет подробностей, среди которых их всего более соблазняет «перспектива работать с пением и плясками»… Обрисовав в таких ужасающих, отталкивающих и карикатурных чертах наиболее типичных представителей передовой России того времени, Щедрин приносит покаяние в своих проступках перед представителями отживающей России, которых обличала до сих пор его сатира: «Да, я каюсь пред вами, старые, отживающие век драбанты! Я был близорук, я не предвидел, что сквозь вас прорастут драбанты новые, и гораздо более ехидные, нежели вы. Я верил в какую-то звезду и умилялся, взирая на мальчиков, которые росли не по дням, а по часам. Оказалось, что это даже и не звезда совсем»[35 - «Современник» 1864. Март, Наша общественная жизнь, стр. 46.]…
Редакция «Русского Слова» ответила немедленно. В неподписанной заметке под названием «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист Современника», журим резко и беспощадно разоблачает все скверные стороны в полемическом фельетоне Щедрина. Фельетонист «Современника» доказал в самом деле, что его чаша полна, но что в ней заключается не нектар, а какая-то «желтая жидкость». Все сотрудники «Русского Слова» обруганы казарменным стилем, которому мог бы позавидовать любой уличный листок. От всех острот Щедрина «пахнет салом курдюцкого барана». Однако он не дал никакого принципиального ответа на возникшие в печати сомнения по поводу его выходки против нигилистов и Чернышевского. Он ничего толком не объяснил, и в его фельетоне, кроме ругани, ничего найти невозможно. «Нас удивляет, пишет Русское Слово, каким образом редакция журнала, всегда отличавшегося тактом, позволила открыть у себя, вместо легкого литературного отдела, какой-то балаган, наполненный кривляньями и буфонством». К чему этот беспредметный гам и стон на том самом месте, где читатели привыкли встречать настоящую полемику, не руководимую раздражением канцелярского самолюбия? Разве Добролюбов отхватывал трепака, когда вступал в единоборство со своими противниками? Разве Чернышевский клеветал на своих оппонентов, с которыми он расходился во мнениях? «Мы еще раз предупреждаем Современник, пишет Русское Слово, что есть границы унижения, за которыми сочувствие, так дорого купленное прежними его деятелями, уже трудно возвратить». Пусть редакция «Современника» обратит внимание, что в их круге оказалась чужая овца. Щедрин издевается над лучшей частью русского общества, но видано-ли где-нибудь, чтобы журналистика издевалась над теми людьми, с которыми она находится в естественной связи, от которых она должна ожидать своих лучших деятелей?..[36 - «Русское Слово», апрель, Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист Современника, стр. 73.].
Косица и журналист, подписавший Incognito, отметили, каждый в свое время, фальшивый выверт Щедрина в его полемическом объяснении по поводу Чернышевского. Ради здравого понимания дела, ради высших интересов истины, писали «Отечественные Записки», мы обязаны сказать, что увеселительное здание из хрусталя и аллюминия в романе «Что делать» вовсе не произвольная подробность. Объяснение Щедрина, заявлял Косица в «Библиотеке для чтения» 1865 г., есть одна уловка, ибо подробности, которые он осуждает, глубочайшим образом связаны с главною мыслью, с основным духом всего романа… Радикальная репутация Щедрина явно пошатнулась, и «Современник», так долго руководивший общественным мнением России, поколебался в своем положении. Два фельетона талантливого, но опрометчивого сатирика должны были окончательно погубить это издание, изменившее самому себе. В это-то время «Современник», надеясь еще наверстать все потерянное в летучей схватке с «Русским Словом», усиливает свою полемику с Достоевским и, как мы уже знаем, доводит ее до невероятного безобразия, вызвавшего энергичный протест во многих столичных и провинциальных изданиях. Не только литературная, но и нравственная репутация журнала стала шататься в глазах публики. Щедрин и Антонович каждым своим шагом все более и более рвали связь с прежними лучшими деятелями, и новые силы, шедшие на смену Добролюбову и Чернышевскому, не упускали случая, чтобы довести до конца раз начатую борьбу с «Современником». В апреле 1864 года Антонович бросает скрытый намек в статье о Писемском против «критиков-детей», увлекшихся новым романом Тургенева[37 - «Современник», 1864, апрель, Современные романы (по поводу «Взбаломученного моря» А. Ф. Писемского и «Призраков» Тургенева), стр. 207.]. Он все еще не может понять своей роковой ошибки, поставившей его в ложное, двусмысленное положение по отношению к молодому поколению. Ему все еще кажется, что Базаров есть карикатура на тип этого молодого поколения. Лишенный всякого критического чутья и художественного понимания, он все еще разгуливается насчет Тургенева и Базарова в площадном тоне, без единого признака живого чувства, живой и непосредственной талантливости. «Современник» как-бы не хочет считаться с взглядами Писарева, который сразу, еще в марте 1862 г., метко оценил произведение Тургенева в статье под названием «Базаров». Он пренебрежительно трактует человека с настоящим критическим даром, по темпераменту как-бы призванного заменить Чернышевского в современном прогрессивном движении русского общества. С наивностью самого поверхностного публициста, непривыкшего взвешивать полемические силы своих соперников, он сам лезет на борьбу с тою же тележною оглоблею, которою бился Щедрин, и при том без его стихийного размаха. Но Писарев мог только выроста и показать свое природное дарование в схватке с «Современником». Тип Базарова представлялся ему превосходным художественным воплощением его собственных убеждений, всех симпатий и убеждений молодого поколения, к которому он принадлежал, и выйти на битву за Базарова, именем Базарова, под флагом реалистического радикализма, значило для него сразиться за святыню своих пылких идейных влечений и страстей. Он с чувством полного превосходства приступил к полемике с «Современником» и на противника, прикрывающегося авторитетом изъятых из борьбы деятелей, обратил свой остро-наточенный, удалецки-разбойнический нож. В трех статьях, под интригующим заглавием «Нерешенный вопрос», он изложил, с настоящим вдохновением, почти с энтузиазмом, с удивительным литературным красноречием, все свои главнейшие убеждения, основные принципы своего мировоззрения. Со страстью юноши он вычерчивает любимый им образ Базарова, выражает несколько смелых суждений о нормальных отношениях между мужчиною и женщиною и с протестантским негодованием набрасывается на поэзию и искусство в таких фразах, которые, несмотря на дико-фальшивое содержание, по своей литературной чеканке сами должны быть отнесены к блестящим страницам русской критической литературы. Антоновичу он указывает на его грубые ошибки, замечая при этом, что роль первого критика совершенно не соответствует его силам. На многих страницах своей статьи он обличает его в полном непонимании художественной фигуры Базарова. Приведя один из нелепых комментариев его, в котором Антонович упрекает Базарова в жестокости характера. Писарев вдруг, изменив общему тону своей статьи, бросает ему в лицо несколько комических, издевательских фраз: «Ах, ты коробочка доброжелательная! Ах, ты обличительница копеечная! Ах, ты лукошко глубокомыслия!» После всего случившегося, после фельетонов Щедрина, нанесших оскорбление Чернышевскому и молодому поколению, Писарев уже не считает необходимым сколько-нибудь щадить «Современник». Критика этого журнала опростоволосилась в одном из важных литературных вопросов, и её бестактный поступок по отношению к роману Тургенева надо как можно скорее загладить пред русской читающей публикой. «Критика наша, с полемическим гневом восклицает Писарев, по обыкновению смотрит в книгу и видит фигу, и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется Антоновичу раскаиваться в его статье об Асмодее нашею времени. Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении. Так напакостить мог именно один только Современник»[38 - «Русское Слово», Сентябрь, «Нерешенный вопрос», стр. 42.]. Таков был первый залп, сделанный по «Современнику» Писаревым. В полемическую борьбу с Антоновичем вмешался человек с крупным литературным талантом и совершенно определенным мировоззрением, которое он имел полное право соединять с традициями Чернышевского, человек, которому Чернышевский протянул-бы руку, если бы в это время его публицистическая деятельность уже не была закончена в силу чисто внешних обстоятельств. Зайцев не был опасным соперником для Антоновича: лишенные литературного таланта, с самым ограниченным кругозором, оба они могли препираться до остервенения, чуть не до кулачных потасовок, изобличая друг друга в недобросовестности, но ни один из них, ни одною своею статьею, не вносил в эту борьбу ничего, что имело-бы истинно литературный характер и значение. Их полемическая схватка груба, безыдейна по содержанию, скандальна по своей распущенности. Но Писарев, несмотря на дикость своих эстетических принципов, несмотря на свою анти-литературную агитацию, был настоящим литератором по темпераменту и по уменью обсуживать художественные явления и оценивать литературное значение своих противников. Его сильное, почти азартное, в немногих строках, нападение на критику «Современника» должно было произвести ошеломляющее впечатление. В этих резких фразах, почти вносящих диссонанс в общий тон его статьи, но обставленных превосходно подобранными и блестяще-разработанными доказательствами, нельзя было не почувствовать цельного и чистого фанатического убеждения. Нельзя было не видеть, что Писарев не сдастся. Верный и убежденный партизан Чернышевского, он был при этом настоящим, типическим выразителем наступившего исторического момента. Выйдя на защиту Базарова, он опирался на живые силы современности. Стоя впереди реалистического движения, он всеми фибрами своей души был связан с прогрессивной толпой того времени.
И «Современник» немедленно откликнулся на дерзкий вызов молодого таланта. В октябре 1864 года Посторонний Сатирик (Антонович) выражает удивление по поводу статьи Писарева «Нерешенный вопрос». По его мнению, статье этой приличнее было-бы появиться в «Эпохе», в «Отечественных Записках», даже в «Русском Вестнике», но никак не в радикальном журнале. Ему приходит в голову, что помещением этой статьи «Русское Слово» хотело совершить какой-то фокус, чтобы вызвать в журналистике новый разговор о нигилистах и затем отречься от всякой солидарности с этой статьей. Антонович считает себя вынужденным обратиться к редакции «Русского Слова» с вопросом: согласна-ли она с этой статьей, разделяет-ли она все суждения её автора о романе Тургенева и о критике на этот роман, помещенной в «Современнике»? Антонович не начнет своей полемики раньше, чем не получит печатного ответа на свой вопрос. Сделав такое приглашение, Посторонний сатирик обращается к одному из постоянных сотрудников «Русского Слова», Минаеву, с вопросом, как он думает о статье «Нерешенный вопрос»? Как вы относитесь к деянию вашего сотоварища по журналу? допрашивает он его. Такой же вопрос он предлагает издателю журнала, Благосветлову. В заключение, разыграв с хлестаковской наивностью роль заваленного делом человека, Антонович важно заявляет о том, что ему нужно еще закончить полемику с «Эпохою», что ему необходимо присматривать за двумя органами Краевского, не упуская при этом – Боже сохрани – из виду московской печати. Полемика с «Русским Словом» подвернулась совсем не кстати, но нечего делать, – уж так и быть, он согласен: как только он получит ответ, он поднимет перчатку, брошенную ему редакцией молодого журнала[39 - «Современник», 1864 г., октябрь. Вопрос, обращенный к Русскому Слову, стр. 268-290.].
«Русское Слово» ответило твердо и ясно. Журналу незачем отрекаться от солидарности со статьею «Нерешенный вопрос». Статья эта оценивает деятельность и современное значение тех людей, на стороне которых находятся все симпатии его сотрудников. Автор этой статьи защищает литературный тип от той клеветы, которую взвела на него журналистика, и показывает важное значение базаровского элемента в общественной жизни, в науке, в искусстве. В этом принципиальном отношении оба журнала разошлись еще в 1862 г., со времени статьи Писарева «Базаров», но «Русскому Слову» нечего бояться полемики и угроз «Современника». В той же книге Зайцев отмечает всю непристойность полемики Антоновича с «Эпохою»[40 - «Русское Слово» 1864 г., октябрь, Ответ Современнику, стр; 103-104 и Славянофилы победили, стр. 71.].
В декабре того же года Антонович обращается к «Русскому Слову» с «Предварительными объяснениями». Он получил печатный ответ и потому должен был-бы начать полемику непосредственно, но тем не менее он находит нужным вдаться в некоторые прелиминарные переговоры. Прежде всего он должен упрекнут Зайцева за то, что тот не понял смысла его полемики с «Эпохою». Неужели, в самом деле, сотрудник «Русского Слова» не видит в этой полемике ничего, кроме непристойностей и личностей? Антоновичу представляется, что в его базарной ругне, обращенной на Достоевского, можно найти какой-то идейный смысл, и он решается спросить Зайцева: «ужели вы не захотели-бы подписать ни одной из моих полемических статей, ужели и вам кажется, как Отечественным Запискам, что моя полемика не требуется для блага отечества и не проливает света на мировые вопросы?» Затем Антонович, слегка укорив Зайцева за его отношение к неграм, переходит к главному вопросу о романе Тургенева. По его глубокомысленному толкованию, Тургенев показал «Русскому Слову» фигу, а оно стало целовать эту фигу, «приняло ее за идеал, за комплимент», и «водяным настоем этой фиги» стало разбалтывать свои критические статьи. Похвалившись тем, что он всеми признан за моветонного полемизатора, Антонович заявляет, что он просто рад трем знаменитым ругательным фразам Писарева: они развязывают ему язык и дают возможность не стесняться в выражениях. Если его критика была названа лукошком глубокомыслия, то отныне он будет называть критику «Русского Слова» бутербродом глубокомыслия, и, говоря о «критикантах» этого журнала, он будет выражаться так: бутерброд с глубокомыслием Благосветлова, бутерброд с глубокомыслием Зайцева, бутерброд с глубокомыслием Писарева. Тургеневские фиги понравились бутербродам «Русского Слова»! Бутерброд с глубокомыслием Зайцева подсиживает «Современник». Спросите у бутерброда с глубокомыслием Зайцева, умеет-ли Антонович непристойно полемизировать? Друзья-бутерброды, коробочки и лукошки, давайте спорить!.. Развернув таким образом свое остроумие, Антонович не упускает однако случая указать на то, что статью его о Тургеневе принял сам Чернышевский. Если его критика оказалась лукошком глубокомыслия, значит[41 - «Современник», 1864 г., декабрь. Литературные мелочи, стр. 156-172.]…
Это предварительное объяснение Антоновича «Русское Слово» встретило с некоторою сдержанностью. Зайцев и сотрудник, подписавшийся «Заштатный юморист», поздравили Постороннего Сатирика с остроумными бутербродами и в насмешливых выражениях указали ему на то, что он затевает полемику не по-рыцарски. Может случиться, что он останется один на этом турнире, если не изменит своей тактики. Однако, при всей «аттенции» журнала к «Современнику», сотрудники «Русского Слова» считают себя обязанными приготовиться к преломлению рыцарских копий[42 - «Русское Слово» 1864 г. декабрь. Постороннему Сатирику Современника и Библиографический Листок, стр. 24-26.].
Так разжигали друг друга своими «предварительными объяснениями» сотрудники двух радикальных журналов, прежде чем начать излагать пред публикой оттенки своих принципиальных несогласий. Не говоря пока ничего по существу, они потрясают воздух диким криком, как готовящиеся к бою полуварварские орды, издали угрожающие друг другу своими военными орудиями. Одни размахивают тяжеловесными дубинами, другие с яростью показывают зловеще сверкающие ножи. Битва будет рукопашная, исступленная, беспощадная… С первой же книги 1865 года «Современник» обрушится на «Русское Слово», и схватка разыграется по всей линии. Ничто не укротит воюющих сторон, пока в этом стихийном столкновении не выяснится окончательно, кто действительно силен и способен победоносно взять роль общественного руководителя. Журналы других направлений будут злорадно следить за этой дракой в среде радикальной партии, а «Отечественные Записки», примыкающие к прогрессивному движению, кружась подле дерущихся, будут бессильно размахивать унылыми алебардами своего умеренного либерализма.
IV
В декабре 1864 года Щедрин уехал из С.-Петербурга, о чем он сообщил в «Современнике» в открытом письме на имя Н. Некрасова. «Оставляя С.-Петербург, писал он с сухим лаконизмом, я могу на будущее время быть только сотрудником издаваемого вами журнала, не принимая более участия в трудах по редакции». Подняв целую бурю в литературе своими фельетонами о нигилистах и насмешкой над оптимизмом Чернышевского, Щедрин на время прекращает свою публицистическую работу. Он поступает на службу, назначается председателем пензенской казенной палаты и, оторвавшись от шумной деятельности передового журналиста, на некоторое время почти скрывается с литературного горизонта – до тех пор, пока Некрасов не привлекает его, в 1868 году, к ближайшему участью в преобразованных «Отечественных Записках». В «Современнике», в качестве главного деятеля, остался один Антонович. Только что окончив полемику с «Эпохою» и уже раззадорив сотрудников «Русского Слова», Антонович должен был выдержать новую битву с этим журналом, который явным образом продолжал традиции Чернышевского. В этом новом споре каждое его слово, после смутивших публику фельетонов Щедрина, могло иметь самое серьезное значение для «Современника». Антоновичу предстояла трудная задача вновь поднять репутацию издания, которая, очевидным образом, истощалась, падала, разлагалась. «Русское Слово» быстро вырастало под редакцией энергичного и предусмотрительного человека, каким был Благосветлов. Его сотрудники, с Писаревым во главе, уже успели привлечь к себе сочувствие публики, которая находила живой отголосок своих настроений, своих надежд, своих запросов в статьях и заметках этого молодого журнала. Свежие литературные работники шли в редакцию Благосветлова, где все, как некогда в «Современнике», кипело своеобразным задором и страстями протестантского реализма. Здесь они могли работать на большей свободе, не стесняемые ничьим мелким самолюбием, которое в «Современнике» этой поры, с заносчивым Антоновичем во главе, должно было отпугивать всякую свежую умственную силу. Выдыхаясь в области литературной и философской критики, «Современник» лишался того рычага, которым всегда управлялось в России общественное мнение. Критика «Русского Слова», отвечавшая воззрениям интеллигентной толпы, воспитанной на статьях Чернышевского, критика, яркая по форме, смелая и решительная в своих требованиях, критика, блещущая настоящим природным талантом, становилась центром нового умственного движения, в котором Антонович, лишенный серьезного литературного дарования, уже не мог играть никакой роли. Победа должна была остаться на стороне «Русского Слова».
В январе Антонович, связанный собственным обещанием, обращается к двум деятелям враждебного органа. С поддельным и вымученным остроумием, отдающим циническим бахвальством, он упрекает сотрудников «Русского Слова» в том, что они отлынивают от прямых объяснений с ним. Нет, друзья мои, восклицает он, не на того напали! и потом, переходя из оборонительного тона в наступательный, прибавляет: «Я не позволю отвлечь себя от главного предмета, да и вас не пущу от него ни на шаг! Я вас заставлю объясниться со мной». Не доверяя добросовестности своих противников, он будет формулировать свои сомнения в виде тезисов и вопросов. Каждый тезис или вопрос будет стоять у него под номером, так что, если какой-нибудь его противник пожелает уклониться в сторону, он укажет на него пальцем, он прямо носом ткнет его в номер. Пусть дрожат все эти бутерброды с глубокомыслием Благосветлова, Зайцева и Писарева. Он идет на них войною и непременно одержит над ними победу. Пусть они посмотрят на трофеи его прежних сражений: Косица лежит во прахе, «Эпоха» разбита в дребезги… Предчувствуют-ли его теперешние враги, что с ними будет? «Что? обиделись? Вам неприятно, что вас назвали бутербродами, да? Вот то-то же и есть, крошечка г. Зайцев, душечка г. Благосветлов»… Затем, разбирая по пунктам свои грубые и мелочные перекоры с «Русским Словом», деловито пересматривая все взаимные характеристики с остроумными уподоблениями лукошку, фиге, бутерброду, он побивает Зайцева его плантаторскими тенденциями, а Благосветлова, натянувшего на себя базаровскую маску, тем, что он некогда вел «уморительную» полемику против идей Чернышевского. Но предметом принципиального спора он считает статью Писарева «Нерешенный вопрос». Он уже два раза говорил «Русскому Слову»: иду на вас, он два раза предлагал ему отказаться от солидарности с этой статьей. Теперь он предлагает это редакции в последний раз и, если она не послушает его, он заставит ее отказаться от «Нерешенного вопроса» и расхлебать кашу, которую заварила эта статья.
В заключение Антонович пользуется неловким объяснением на щекотливую денежную тему Благосветлова с литератором М. Вороновым, издевательски предлагая издателю «Русского Слова» расплатиться за провинившегося литератора из собственного кошелька.
В той же книге Д. Минаев, неожиданно передавшийся на сторону «Современника», отвечает Антоновичу на его вопрос о том, согласен ли он с идеями, выраженными в «Нерешенном вопросе». Бойкий пасквилянт оказался несолидарным с Писаревым. Сотрудник пошлого «Будильника» никогда «не доходил до обожания базаровского типа» и в романе Тургенева видит только пролог, прелюдию к эпическим творениям Писемского, Клюшникова и Стебницкого[43 - «Современник» 1865 г., январь, Литературные мелочи, стр. 157-172.].
Благосветлов, грубый не менее, чем Антонович, но более, чем он, ловкий и твердый, ответил немедленно. Он издевается над Антоновичем. Из обширного лексикона бранных слов он выбирает самые кричащие. Посторонний Сатирик угрожает решительно истребить сотрудников «Русского Слова». Он махает руками и делает всевозможные ужасающие жесты! С ним говорят спокойно, а он на полторы мысли ставит до пятисот вопросительных знаков. Противники едва удостаивают его ответа, но он не унимается. Размазня, предлагаемая в статьях Антоновича, заварена самим «Современником», и пусть сам «Современник» ответит, считает ли он себя солидарным с известными фельетонами Щедрина о нигилистах и Чернышевском. пусть он ответит, какими рыцарскими побуждениями руководствовался Щедрин, обратив против «Русского Слова» целую батарею разухабистого остроумия. Антонович бессовестно лжет, обвиняя его в том, что он писал уморительную критику против Чернышевского. Он никогда не укорял Чернышевского ни в чем постыдном и в этом всякий может убедиться, пересмотрев его статьи, напечатанные в «Отечественных Записках»… По вопросу о Воронове, он с презрением откидывает от себя издевательство Антоновича, предлагая ему направить в другую сторону его «копеечную филантропию»[44 - «Русское Слово» 1865 г., январь, Буря в стакане воды, стр. 166-171.]… Посторонний Сатирик не остался в долгу у Благосветлова. Благосветлов поднял свой нос и показал себя о натюрель, говорит он. Голова его, «страждущая абсентизмом толку», совершенно притуплена заносчивостью и самомнением. Антонович знал, что его противник пойдет на самые крайние меры, чтобы спрятать свой замаранный хвостик, но он не ожидал от него бессовестного запирательства. Перепечатывая, по своему обыкновению, всю заметку Благосветлова, Посторонний Сатирик постоянно перебивает её текст назойливыми и развязными замечаниями в скобках. Намекая на то, что Благосветлов получил журнал от графа Кушелева-Безбородко, Антонович подносит противнику следующее неприличное обвинение: «вы, г. Благосветлов, пишет он, некогда в графской передней почивали на связке парадных гербовых ливрей», и тут же, через несколько строк, прибавляет: по истине вы бутерброд и больше ничего! Бутерброд с размазней, да еще гнилой!.. Благосветлов спрашивает о солидарности «Современника» с Щедриным, и вот Антонович отвечает с хитроумием, достойным настоящего журнального заправилы, что «Современник» вполне солидарен с бранными фельетонами сатирика, «поколику они относятся к г. Блого Светлову, а к другим сотрудникам только относительно их мнений, несогласных с Современником». Печатая статьи Щедрина, «Современник» проникнут был негодованием на таких литературных шалопаев, как Благосветлов, и «хотел очищать литературу от гнилых и заразительных бутербродов». Антонович не смешивает своей полемики против Писарева и Зайцева с полемикой против Благосветлова. «Много чести для вас, пишет он, если вы их называете своими сотрудниками. Гораздо точнее назвать вас ихнем прихвостнем или, лучше, человеком, загребающим жар ихними руками»[45 - «Современник» 1865 г., февраль, Глуповцы в Русском Слове, стр. 367 – 386.].
Разбросав на пространстве двадцати страниц множество самых разнообразных «бутербродов», – с глубокомыслием, с шалопайством, с размазней, бутербродов простых, гнилых и заразительных, и повторив на сотню ладов одни и те же обвинения против Благосветлова, Антонович в той же книге «Современника» помещает еще две длинных ругательных статьи: одну (в 15 страниц) против «Краев-скаго» и «Ду-дыш-кина» и другую (в 38 страниц) против Зайцева, отложив еще до следующих книг громадную ругательную статью против Писарева. Подражая изо всех сил Чернышевскому и памятуя его опрометчивое суждение о Шопенгауэре, Антонович, в статье о Зайцеве, с видом знатока упрекает последнего за чересчур высокую оценку этого философа. Шопенгауэр, пишет он, был идеалистом, самым плохим идеалистом, идеалистическим философом самого мелкого калибра и самого дурного качества. Если Зайцев позволил себе дурной отзыв о Фихте, то о Шопенгауэре ему следовало-бы выразиться так: «А об этой дряни уж и говорить не стоит, не стоит тратить на нее даже гнилой репы». У Шопенгауэра нет ни системы, ни направления, ни связи, ни последовательности, нет ни одной глубокой философской мысли. Он забыт уже в самой Германии[46 - «Современник», 1865 г., февраль, Промахи, стр. 258.]…
Антонович, Благосветлов и Зайцев обменялись новыми возражениями в том же невероятном тоне, дальше которого, в смысле литературного неприличия, – нельзя было идти. Полемика приняла характер настоящей свалки. Оппоненты говорят друг другу в глаза невероятные вещи, вытаскивают на сцену интимнейшие подробности, не имеющие никакого принципиального значения и, не щадя читающей публики, обзывают друг друга самыми забористыми ругательными словами. Благосветлов не стесняется в определении литературной тактики Антоновича. Он обвиняет его в полемическом шулерстве, в хлестаковщине. «Ах вы, лгунишка! Ах вы, сплетник литературный! кричит он. Вы собираетесь посадить меня на ладонь и показать публике, а я советовал-бы вам спрятаться куда-нибудь в сапог и не показывать ваших бесстыжих глаз ни в редакции Современника, ни своим знакомым». В другом месте Благосветлов обещает поднести Антоновичу «вместе с грязным хвостиком и колпак с ослиными ушами», остроумно называя его при этом хавроньей. В заключение он дает торжественное обещание не входить больше ни в какие объяснения с Антоновичем и сохранить настолько хладнокровия, чтобы не состязаться с своим противником его же оружием[47 - «Русское Слово», 1865 г., февраль, стр. 66-78.].
Зайцев отвечает отдельно Антоновичу и Постороннему Сатирику, как-бы двум различным писателям. На приставания своего противника, по поводу его впечатлений от полемики с «Эпохой», он отвечает довольно решительно. Он убежден в том, что Антонович имел только одну цель – показать свою храбрость, и для этой цели он не пренебрегал никакими ругательствами и даже клеветой. Полемика Антоновича с «Русским Словом» еще более убедила Зайцева, что спрашивать его об идеях и принципиальных соображениях дело совершенно бесплодное. Полемические приемы Антоновича возможны только в той литературе, которая отразила в себе все ужасы последнего трехлетия. Такого же мнения об Антоновиче держатся и два других сотрудника «Русского Слова» – Писарев и Шелгунов, сообщает Зайцев[48 - «Русское Слово», 1865 г., февраль, стр. 57-65.]… Неизвестно, до чего-бы дошла ругательная изобретательность полемистов, если-бы самый способ исключительно словесных пререканий не начал казаться им слишком слабым и недействительным для разрешения этого литературного спора. По несколько туманному и слегка смущенному заявлению, сделанному Антоновичем в марте 1865 года, в полемику вошли новые, реальные факторы: «Опасно полемизировать с теми, пишет он, которые могут послать на вашу квартиру двух огромных детин гайдуков для вашего вразумления», гайдуков, которые «прибегают к таким красноречивым увещаниям, что для удержания их требуются дворники и городовые»[49 - «Современник», 1865 г., март, Литературные мелочи, стр. 216.].
Так закончился первый период борьбы «Современника» с «Русским Словом». Три главных воителя, Антонович, Благосветлов и Зайцев, показали себя с различных сторон. Выступая то с опущенным, то с поднятым забралом, Антонович боролся изо всех сил, одиноко отбиваясь тяжеловесной дубиной от не менее чем он наглых, ничем не стесняющихся и лучше его поставленных в глазах молодого поколения сотрудников «Русского Слова». Развязно шельмуя своих противников, он не сумел при этом, однако, сказать ни единого слова, которое могло-бы примирить его с теми, которые ждали от него оправдания или твердого объяснения по поводу распущенных фельетонов Щедрина. В этой полемике он обнаружил только мелкое, мстительное самолюбие и полную неспособность держаться в споре на почве чисто-литературных интересов. Ни одна заметка его не проникнута каким-нибудь идейным интересом. С первых же шагов он запутывает в спор обстоятельства и счеты, к делу совершенно не относящиеся. Не уважая чужих мнений, он и в своих противниках умел будить только самые низменные страсти, и, оскорбляемые его выходками, они накидывались на него с его же орудиями, но били сильнее, потому что были моложе и свежее его. Благосветлов сразу потерял самообладание и, как мы видели, брызнул целым фонтаном сквернословия. А Зайцев, человек мелкий, наглый и, при всех своих критических и философских претензиях, невежественный, не завлекаясь ни в какие серьезные споры, бойко поддавал коленом…
Писарев, сидевший в это время в крепости, как орленок в клетке, рвался к полемике. Человек с темпераментом бойца, он не мог оставаться спокойным, читая, какими словами Антонович поносил Благосветлова. Фраза Антоновича о том, что Благосветлов есть только «прихвостень» его, Писарева, и Зайцева, разожгла в нем благородное товарищеское чувство. Не имея пока возможности лично сразиться с общим противником, он поручил своей матери, Варваре Писаревой, отдать в «Современник» письмо на имя Николая Алексеевича Некрасова, в котором от его лица делается твердое и решительное заявление, имеющее весьма важное значение для понимания хода умственного развития Писарева, Писарев вступил на почву литературного реализма под влиянием Благосветлова, который оторвал его от его прежних эстетических симпатий. «Своим превращением, пишет Варвара Писарева со слов своего сына, он исключительно обязан Благосветлову. Если, говорил он мне часто, я сколько-нибудь понимаю теперь обязанности честного литератора, то я должен сознаться, что это понимание пробуждено и развито во мне Благосветловым. Сын мой видит в Благосветлове не прихвостня, а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты». Никогда Благосветлов не холопствовал перед графом Кушелевым – Безбородко. Если же упрек этот был-бы справедлив, он должен был-бы упасть и на Писарева. Если холопствовал редактор, то должен был холопствовать и его помощник. Позорить Благосветлова и в то же время выгораживать Писарева невозможно: или оба они честные люди, или оба негодяи. «Таково глубокое убеждение моего сына», заключает свое письмо Варвара Писарева[50 - «Современник» 1865 г., март, Письмо в редакцию, стр. 218-220.].
При первой возможности Писарев схватывается с Антоновичем лично. Не входя в рассмотрение всех перипетий первого периода борьбы, он пользуется новыми материалами, чтобы доказать Антоновичу его уклонение с пути Чернышевского. Антонович в это время успел напечатать подробный разбор «Эстетических отношений искусства к действительности», появившихся новым, вторым изданием. В течение десяти лет взгляды Чернышевского успели пустить глубокие корни в русской литературе и в настоящее время есть журналисты, которые доводят их до крайностей, утрируют их в ущерб их действительному смыслу, говорит Антонович. Считая себя одного хранителем философских традиций Чернышевского, Антонович полагает нужным изложить его эстетическую теорию в её первоначальном виде, как «она вышла из рук её основателя или насадителя на русской почве». Но пространно передавая эстетические понятия Чернышевского, Антонович, быть может, не заметно для самого себя, прибавляет кое-какие черты к тому, что было впервые напечатано в магистерской диссертации Чернышевского, принимая при этом тон «рационального» оппонента «рьяным, но не слишком рациональным» последователям этой новой теории. В последнее время, пишет Антонович, некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассудительности дошли до того, что стали восставать против искусства и эстетического наслаждения вообще. По мнению Антоновича, такой «аскетический» взгляд на искусство понятен и возможен только у людей, которые тенденциозно придумывают разные кодексы человеческих обязанностей, не считаясь при этом с реальными свойствами и потребностями человеческой натуры. «Эстетическое наслаждение есть нормальная потребность… Искусство, как удовлетворение этой потребности, полезно, если бы оно даже ничего не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим высшим целям»[51 - «Современник» 1865 г., март, Современная эстетическая теория, стр. 68.]. Подобными оговорками Антонович обставляет свое изложение «Эстетических отношений», явным образом бросая полемические стрелы в сторону Писарева. Этим маневром критик «Современника» думал смутить своих противников, обвинив их в том, что они искажают идеи Чернышевского, который, будто-бы, вовсе не отрицал эстетики, эстетических наслаждений и важности «искусства дли искусства». Придавая диссертации Чернышевского более широкий и толерантный смысл, Антонович этим самым однако давал такому противнику, как Писарев, очень опасное оружие против себя. Выводы из сочинения Чернышевского, беспристрастно сделанные, могли быть только разрушительными по отношению к искусству, и Писареву не стоило особенного труда показать все отклонения Антоновича от утилитарного реализма Чернышевского. Опираясь на собственное понимание трактата Чернышевского, Писарев спорил по этому поводу с Антоновичем, имея в виду не только подлинные выражения и слова того, кого считал своим авторитетом, но дух и общие стремления всей его философской деятельности, которая не допускала никакого компромисса хотя бы с самыми слабыми оттенками идеалистических понятий. Он развивает доктрину Чернышевского именно в том направлении, которое наиболее соответствовало реалистическим тенденциям эпохи. Другими материалами Писарев не пользовался. Но если бы он пожелал, он мог бы, в дополнение к знаменитому трактату Чернышевского, воспользоваться еще и другим его трудом, а именно критическим разбором «Эстетических отношений», напечатанным в июньской книге «Современника» в 1855 году, в год выхода трактата, за подписью Н. П., но, по несомненно верному в данном случае заявлению Антоновича, принадлежащим – как это ни странно сказать – самому Чернышевскому. Рецензент, руководимый, по комментарию Антоновича, желанием дать ход своим идеям, рискнул представить критический реферат, о своем труде, при чем он «с достоинством и беспристрастием указал, как на хорошие стороны, так и на некоторые упущения в своем сочинении»[52 - «Современник» 1865 г., март, Литературные мелочи, стр. 209.]. С удивительным самообладанием решительного и несколько коварного агитатора, не пренебрегающего для завоевания умов никакими средствами, Чернышевский выдает своему трактату, отвергнутому официальною русскою наукою, диплом от лица настоящей передовой философии. В своей рецензии он хочет показать, «до какой степени верно» Чернышевский сделал приложение к частной области эстетических понятий общих воззрений науки. «В средоточии дела», в системе современных философских идей можно найти полное оправдание тому, что излагается в «Эстетических отношениях». Автор, говорится в рецензии, обнаруживает способность различать в известных понятиях элементы, согласные с воззрениями современной науки, и элементы, с ними несогласные. «Его теория имеет внутреннее единство характера». В ней все принадлежит положительной науке, хотя надлежащими примерами ее можно было бы поставить в связь «с интересами дня, которые занимают столь многих…»[53 - «Современник» 1855 г., июнь, Критика, стр. 23-54.].
В «Эстетических отношениях» нет настоящего изложения той современной философии, именем которой Чернышевский защищает Чернышевского, но не подлежит сомнению, что, опираясь на эту философию, в том виде, в каком – судя по дальнейшим его статьям, – представлял ее себе Чернышевский, Писарев мог бы доказать свою полную правоту и последовательность в споре с Антоновичем. На его стороне были идеи века, а дух учителя, еще живого, по уже отдаленного от своих верных учеников, витал над поколением молодых писателей, призывая к окончательному, беспощадному разрушению праздной эстетики. Антонович, уже обнаруживший совершенное непонимание молодых продолжателей Чернышевского, теперь показал, что он никогда глубоко не понимал и самого Чернышевского, с его во всем радикальными, прямолинейными стремлениями, с его темпераментом бестрепетного разрушителя, с его узким, односторонним, но фанатически непреклонным умом.
Писарев откликнулся на многочисленные выходки Антоновича сначала в статьях «Прогулка по садам Российской словесности» и «Разрушение эстетики», а потом, сразившись с «Современником» по вопросу об «Эстетических отношениях», дал пространный, горячо написанный ответ на полемические статьи Антоновича, «Промахи» и «Лжереалисты» – в статье под названием «Посмотрим», заключившей борьбу обоих журналов. И каждое из возражений Писарева проникнуто сильным чувством убежденного человека. Он нападает на Антоновича со страстью партизана известной доктрины, которую его противник унизил своим фальшивым заступничеством. Антонович оскорбляет его чувство порядочности своею полемическою невоздержностью и клеветническими приемами. У него нет самостоятельного миросозерцания, нет Щедринской веселости, которая умела осмеивать то, чего она не понимала, – и вот он собирает, вместо логических аргументов, в споре с своими противниками всякого рода сплетни и небылицы. У Антоновича не хватает честности отказаться от своего «Асмодея», и защищая проигранное дело, он запутывается в софизмах и заводит критику «Современника» в те дебри, в которых гнездится русское филистерство. Он сыплет целыми лукошками самого неблаговидного лганья и, чтобы оборонить свою репутацию, взваливает ответственность за свою нелепую статью о Тургеневе на Чернышевского, который, приняв ее для печати, тем самым будто-бы выразил свою солидарность с нею[54 - «Русское Слово» 1865 года, март, Прогулка по садам. Глава XI, стр. 63-68.].
В статье «Разрушение эстетики» Писарев вооружается против сделанного Антоновичем изложения трактата Чернышевского, доказывая, что автор его имел в виду полное истребление старой и вообще всякой эстетической теории. Эта цель сквозит во всех определениях Чернышевского, в его смелом и решительном анализе различных эстетических учений, и она могла быть превратно истолкована только филистерами или «самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова». Если Чернышевский пользуется в своем сочинении старыми терминами, то он делает это только потому, что в 1855 году русское общество не было еще подготовлено к пониманию его плодотворных идей. Но теперь, через десять лет, надо сделать явною главную тенденцию Чернышевского. Пришла пора двинуть в жизнь эту разрушительную силу, чтобы добиться от литературы иных эффектов, иного воздействия на общественную жизнь. Но что же делает Антонович с сочинением Чернышевского? Поворачивая «Современник» назад, в тихую область безмятежного искусства, и сознавая недостаточность своих собственных сил для произведения такой реакции, он в своем отступлении хочет прикрыться «Эстетическими отношениями». Он хочет доказать, что мысли Чернышевского в настоящее время утрируются. Чтобы образумить чересчур рьяных последователей новой доктрины, он старается затормозить их порывы яко-бы словами самого Чернышевского. Он хотел-бы, чтобы известная книга залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль, и чтобы «Эстетические отношения» сами разрушили то дело, которое они создали! «О, г. Антонович! О, гениальный г. Антонович!» иронически восклицает Писарев. «Вы себе даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то некоторых. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал Современник. Писарев обвиняет своего противника в нравственной „приземистости“, которая не позволяет ему идти в общем движении эпохи, в неспособности работать по страсти, в умственной дряхлости. В его эстетических воззрениях, изложенных в рецензии на книгу Чернышевского, он не видит ничего такого, что давало-бы ему повод раздираться с Страховым, Incognito, Аверкиевым и Н. Соловьевым. Его новая реклама в пользу искусства, издевается Писарев, заслуживает „филистерских бесешек“ этих людей, работающих в журналах с иным направлением, чем „Современник“».
В двух статьях, направленных против Писарева[55 - «Русское Слово» 1865 г., май, «Разрушение эстетики», стр. 31.], Антонович глумится с обычною грубостью над критиком «Русского Слова». Все литературные статьи Писарева не больше, как фанфаронада, пустое фразерство, вводящее в заблуждение молодые умы, и для пользы литературы необходимо разрушить его пьедестальчик как можно скорее. У Писарева, этого «лучшего цветка в саду реализма», нет ничего: ни самостоятельного миросозерцания, ни каких-нибудь серьезных критических преданий. Он отрекается от Добролюбова и доводит до абсурда рациональную теорию Чернышевского. За ним стоит Благосветлов, его наставник, его друг, он недоношенное детище Благосветлова. Разбирая статьи Писарева о «Нерешенном вопросе», Антоновича в сотый раз повторяет, что Базаров – карикатура, сочиненная на молодое поколение, и что Писарев, восхваляя «Отцов и детей», встал под то самое знамя, под которое радостно бежало все отсталое, обскурантное, своекорыстное, пошлое. «Русское Слово» шло за триумфальной колесницей Тургенева, которому «Современник» никогда не простит его литературного преступления. «Современник» всегда будет гордиться тем, что он не участвовал в этом позорном торжестве[56 - «Современник» 1865 года, апрель, стр. 315.]. «Понимательная» способность Писарева слаба и неудовлетворительна. Вот почему он так обрадовался Тургеневу, который оказался ему по силам. Вот почему он ухватился за Базарова, – за эту первую «реалистическую штуку, которую он мог осилить и понять». О, недоносок Благосветловский! О, недоразвившееся дитя Тургенева! О, скудоумный Писарев![57 - Там же июль, «Лже-реалисты», стр. 74.]…
Писарев в громадной статье «Посмотрим» опровергает все возражения Антоновича. С достоинством умного и талантливого писателя он выражает сожаление, что употребил в статье «Нерешенный вопрос» чересчур резкое выражение против Антоновича (лукошко глубокомыслия). Имея дело с противником, готовым, в случае надобности, прибегнуть к «фальсификации печатных документов», он, по естественному чувству протеста и человеческого негодования, схватился за то орудие, которым боролись с Антоновичем его товарищи, Благосветлов и Зайцев. Полемика приняла характер дикой оргии, но теперь он намерен шаг за шагом проследить все аргументы «Современника», дать им оценку, сличить их с собственными доказательствами и, выведя все дело на полный свет общественного мнения, сказать последнее слово своему противнику, до будущей, вероятно не близкой, схватки. В точных и ясных выражениях он определяет свое отношение к Благосветлову, еще раз обрисовывает реалистическую теорию, свой взгляд на Базарова и отношение к Добролюбову и Чернышевскому. Горячий сторонник старого «Современника», он никогда однако не жертвовал своею самостоятельною критикою и потому смело расходился с Добролюбовым в тех случаях, когда он находил его взгляд неверным и неосновательным. Он не согласился с его оценкой романа Тургенева «Накануне», он резко разошелся с ним в понимании таланта-Писемского, к которому Добролюбов относился с полнейшим и отчасти даже афектированным пренебрежением. Он оценил по своему и опять-таки в разрез с критикою Добролюбова стихотворные произведения Фета и Полонского. никто не имеет права называть его горячим приверженцем Добролюбова: он никогда им не был, хотя всегда считал Добролюбова очень умным и очень честным человеком. Антонович не понимает, что можно уважать писателя и в то же время расходиться с ним во мнениях, и следует только пожалеть, что роль первого критика в «Современнике» досталась такому ограниченному человеку[58 - «Русское Слово» 1865 г., сентябрь. Посмотрим, стр. 14.].
На этом закончилась полемика двух журналов. В борьбе «Русского Слова» с «Современником» обе стороны оказались виноватыми в нарушении литературных приличий, но победа, без всякого сомнения, осталась за тем журналом, в котором работал Писарев. Это был момент настоящего расцвета молодого журнала, в котором и раньше статьи Писарева возбуждали всеобщий интерес публики. Радикальное знамя было отбито у «Современника», и на поле журналистики «Русское Слово» могло считаться в то время лучшим выразителем стремлений молодого общества. Экономические статьи Н. Соколова, поверхностного знатока предмета, но бойкого и разудалого реалиста на экономической почве, постоянные статьи Н. Шелгунова, Щапова, Ткачева, Флоринского, беллетристические работы Шеллера, Бажина, Потанина, Глеба Успенского, и во главе каждой книги критические статьи Писарева и Зайцева, – не могли не содействовать полному и широкому успеху журнала в публике с передовыми запросами эпохи. Журнал читался на-расхват, и каждая новая статья Писарева, уже ставшего идолом толпы, возбуждала шумные толки во всех слоях общества. Потребность в человеке, который заменил-бы Чернышевского, который вел-бы смелою рукою молодые поколения, нашла себе полное удовлетворение в его ярком таланте, без философской глубины, но с порывами свободной души, не признающей никаких авторитетов, беспощадно осмеивающей всякую рутину, объявляющей войну всяким предрассудкам. В исторический момент пересмотра всех основ русской жизни его бурная, разрушительная деятельность, не руководимая ни в какой области никакими точными, научно-обоснованными, положительными критериями, но проносившаяся удалым призывом над толпою, едва приходящею в движение и отряхающею с себя тяжелую дремоту долголетнего бездействия, должна была вызвать общее сочувствие. «Русское Слово» съумело воспользоваться моментом, и, если-бы не правительственное запрещение в 1866 году, оно, несмотря на некоторые неизбежные пертурбации в составе сотрудников, на выход из их числа Зайцева и Соколова, огласивших в печати свои пререкания с Благосветловым и на очень короткое время привлекших на свою сторону даже Писарева, журнал занял-бы в обществе место прежнего «Современника». Благосветлов был несомненно практичным и умелым редактором, а к его услугам были все выдающиеся таланты известного направления.
А «Современник» быстро склонялся к полному упадку. Потолковав с читателем в защиту своей полемической разнузданности, еще раз схватившись с Краевским, прогулявшись по брошюре Кавелина «Мысли о современных научных направлениях» и возразив газете Аксакова на её во многих отношениях справедливые нападки, Антонович закончил свою деятельность в 1865 году компилятивною статьею об умственных движениях в XIX веке, при всеобщем протесте печати и публики. Ни одно живое общество, в котором еще не притупилось окончательно чувство нравственной брезгливости, не могло не отвернуться от этого печального героя нескольких скандальных историй с лучшими тогдашними журналами – «Временем», «Эпохою» и «Русским Словом». «Отечественные Записки», не принимавшие в этой борьбе партий активного участия, в нескольких статьях выражали свое презрительное отношение к полемической тактике воюющих сторон. Наше передовое движение, писали они, не есть чисто литературное движение. По самой глубокой своей сущности, говорил не безызвестный в то время писатель Зарин, скрывший свою фамилию под псевдонимом Incognito, оно скорее анти-литературное движение[59 - «Отечественные Записки», 1865 г., т. CLVIII, Предисловие к литературному обозрению, стр. 714.]. Иронизируя над полемическими бойцами из «Современника» и «Русского Слова», этот писатель приводит по пунктам все verba novissima, которые были пущены ими друг в друга. «Противники до того одушевились, что, по сильному выражению одного литератора, в небесах небес заря загорелась». Обозрев все стадии этой междоусобной войны в среде радикальной партии, Зарин заключает свой фельетон следующим меланхолическим рассказом, не без яда рисующим положение современного читателя. Однажды он провел в глубоких размышлениях бессонную ночь вплоть до ясной зари. Когда небо побагровело на востоке, он услышал над самою крышею какой-то гогот и тяжелое маханье крыльев, на подобие тех, которые издаются стаями низко летящих диких гусей. Он поспешил открыть окно: то были действительно стаи, но не гусей… они летели с противоположных сторон, с севера и с юга, но направлялись как будто к одному пункту, исхудалые и голодные. Очутившись одна от другой на полет стрелы, они обменялись вопросами и ответами: «Товарищи, откуда?» – «Из Русского Слова», – «Из Современника». То были стаи молодого поколения, улетавшие от уважаемых прежде журналов…[60 - «Отечественные Записки», 1865 г., т. CLXI, Verba novissima, стр. 173.].
Газета Аксакова «День» следила за полемикою в своем критическом отделе, и когда Антонович разразился своими знаменитыми бутербродами, сотрудник её П. Б. справедливо сказал, что новый дух, веющий в «Современнике», – только духота от миазмов его разложения и гниения[61 - «День» 1865 г., № 17, Журнальные заметки, стр. 411.].
В ответ на все эти печатные толки «Современник», странным образом воспользовавшись освобождением из под предварительной цензуры, решился беспристрастно оглядеть все свое прошлое. В августе 1865 года он печатает передовую статью под названием «Итоги». По неточному объяснению журнала, который очевидным образом круто сворачивал на совершенно безобидную дорогу, «Современник» с самого начала вращался в кругу интересов, отнюдь не имеющих характера политической оппозиции, и эта воздержность не была вовсе случайною, а «вытекала из сущности самого его взгляда на свое дело». Оппозиционная литература менее всего касалась вопросов политических, и когда «Русский Вестник» стал увлекаться политическим англоманством, она «только осмеивала конституционные вирши этой литературы». Она не признавала политического вопроса первостепенным и потому соглашалась с мнениями тех, которые утверждают, что «всякое общество получает на деле только то, чего оно стоит, что администрация, законодательство и проч. на столько же бывает чисто, справедливо и совершенно, на сколько чисто, совершенно и справедливо само общество, его взгляды и требования». Она полагала, что общество должно исправиться первое – и потому вела агитацию только на эстетической и научной почве. С нигилизмом «Современник» никогда не хотел иметь ничего общего, и когда Щедрин насмеялся над вислоухими и нигилистами, журнал поступил согласно с своей программой. С «Русским Словом» «Современник» порвал вследствие принципиальных соображений, предоставив ему вносить в молодое общество дух опошления за собственный счета и не желая нести ответственности за его деятельность пред русскою литературою[62 - «Современник» 1865 г., август, Итоги, стр. 297-332.].
В 1866 г. «Современник» уже не представлял из себя ничего интересного в каком-бы то ни было отношении. Он прекратил свое существование в связи с жгучими событиями дня, отголосок которых мы находим в Апрельской книге в «Современном обозрении» и в патриотическом стихотворении Некрасова «Осипу Ивановичу Коммиссарову».