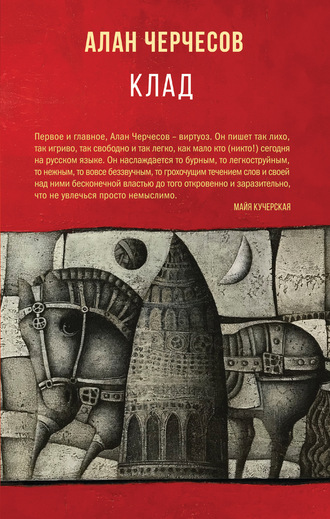
Клад
– А как в юноши вырос, так первую кровь и прокапал, – объясняет Оторва Флорину. – Сревновав сестру Бенку, по этим броженьям цыгана серпом зарубил. А в плюгавце убитом ни даже задоров мужских, ни приличных к отпору силенок. Коли Вылко дохляк – так тот рядом с ним недоносок, сморчок. Мелюзга, да и только. Пуподых его кличка была.
– Потому что в пупок человекам дышал, – прицепляюсь и я к их капеллам. – А про то, что цыган, мой отец возражал. Склонялся, что тот из себя отродясь беспризорник. Приблудился к цыганскому табору, но под Кочово выпал впросонках с кибитки и от нечего делать к мангалам[19] пришпилился тутошним. Токмо оседлые ромы своим сосунка не признали: поскребли на нем смуглость и бледную кожу достали. Так что был Пуподых не цыган. Хоть водился у нас лишь с цыганами: кто другой и к калиткам его не пускал. Да и сам он не очень к болгарам захаживал: опасался покусов собачьих. Сантиметров в нем было не выше ягненка, а дворняги у нас испокон чуть не все с волкодавным примесом, в добавку на лютостях взращены.
– Карлик, что ль, Пуподых ваш? – удивляется жадно Флорин.
– Недомерок скорей. Вроде все, как положено, токмо в лупу подсмотрено, – выручает сравнением Тенчо. – Извращение, в общем. Хотя и в стандартных пропорциях.
– И с чего ж его Вылко серпом повредил?
– А с того, что отсюда, приятель, зачинается в хлопчике истинный висельник, – омрачается взглядами Тенчо и тяжко, красиво вздыхает. – Жалко, высох бокал, не то б я тебе расписал людоедства его за сопутным питьем. Коль послушать приспичит, пивко на двоих наливай, пошушукаем давние ужасы в узкой компании.
Ничего себе, думаю. Закадычный мой кореш, а действует плоше врага! Или к ним мне подсесть на троих? Но посмотришь с воздержной, второй стороны, и сомнения уже затрудняют: вдруг мне память за эту подсевку спасибо не скажет, а, даже напротив, озлится склерозами? Коли Тенчо набрешет чего, я его, хоть казни, не подлажу, ибо помню историю смутно, просыпаюсь в ней разве обрывками. Для моих осенений, кажись, всеохватности надобны.
– А ты вот что, Флоринчо: пивком-то его угости, но к Оторве ходить не сбегай. К прочим кадрам похоже вниманием слушайся. Постигай все не в нитку – объемами. В кружку к Тенчо себя ты всецельно, пожалуй, не втискивай.
Чую, щеку мне шпарит огнем. Повернулся, а там Детелинчо меня ненавидит. Ну и хрен с тобой, думаю. Буде клад нераскрытым остался лежать в Дюстабане, я из нас о нем первый дознаюсь, а ты хоть до шкварок себя запылай.
– Прав Запрян. Он дурного совета не сжулит, – потрафляет мне стопкой врасплох Трендафил. – Пей, дружбан, в новый раз мой бесплатный полтинник. Славно ты это удумал – разговоры на клады подуськивать. Задираешь, как в прежние веки, мне выручку. Нет в кабачьих рекордах позиции прибыльней, чем споры за деньги.
Я, конечно, польщенный, но не такой и тюфяк, чтоб не прочухать лукавины: больно голос в корчмаре нетвердый, обманчивый. Видать, докумекал игру Трендафил и со всякой раздачи напрок козырно́го туза вычисляет. Был один я себе на уме, а с полудня плутов уже двое, не считая сюда Детелина, который с меня черных взглядов не сводит, колупает, вражина, ногтем по Запряновой совести.
Выпил я, ка́пнул прозрачностью в душу, затлелся теплом, рассуждаю: была не была! Поглядим, кто из нас расторопней смекалками. Про корчмаря во сне сопляка – ни гу-гу. А без сна Детелина и клада-то давеча не было.
Ободрившись ракийкой, впрягаюсь притворства разменивать:
– Предположим, не врет Детелин, – говорю.
– Хорошо, – отвечает корчмарь. – Давай предположим.
– Предположим, в твоих все способностях.
– Ладно.
– И откуда б ты начал подкопное дело? Ну, то есть знай ты, что клад тот по-прежнему в нашей земле кочемарит.
– А мы про то знаем? – прищурил меня Трендафил.
– Знать, конечно, совсем не уверены. Однако такой разворот допускаем.
– Тогда мне копать рановато. Я покамест успехи свои налегке подожду, без копания.
Тут уж я, старшина, осерчал.
– Вижу, ты у нас снова непьющий. Надо быть, истово ждать упражняешься. Мне-то оно трын-трава. Ежели хочешь Запряна сронять, я твою недопитость откушать готовый со всем удовольствием. А что до покрытья расходов – пиши в счет нарытого вскорости золота. Можешь даже процентом мою недоимку наддать.
Почитай что на розданных картах блефую!
– Не пойдет, – балагурит корчмарь. – Коль тебя на кредит разгулять, одного сундучка в возмещение убытков достанет навряд. Лучше мы дальше про Вылко намеки заслушаем… Эй, Дончо, не скажешь чего по вопросу? Ты ведь в Габрово с Вылковой внучкой за партой учился, поди, отношенья имел, на уроках ее шурымурил.
А Карпачев ни капли не против: обожает балясы точить и бредятины в публику сплетничать.
– Мы с Митошкой за Вылко себя не заботили. В иные забавы тогда егозили проказами. Девчурка была она бойкая, язычком и проступками – язва. Обществ чуралась, однако ж со мною якшалась впритирку, на речке вподручно махорку курила и не гнушалась за это лобзаний…
– Ну, теперь понесет! – хныкает в спину мне Паско Даскалов. – Покуда не трахнет, хрыч ей спуску с той речки не даст. Не спасешь ли нас, батюшка? Запрещай пердуну ударяться в развраты.
Евтим призывает бахвала к порядку:
– Ты бы, Дончо, убавил свою ненаедность и по детским шпаргалкам блудить не ходил. Ограничься в отчетах фигурой Разбойника Вылко, а возле косичек топтайся не шибко.
– Просвети, как вспорол он серпом Пуподыха, – клянчит бражник Флорин, потом пересекся глазами с Оторвой и дерганым ртом виноватится: – Или другие расскажут, ежели Дончо чегой-то в годах подзабыл?
Я такой кувырок лишь приветствую:
– Вот вам, соземцы, первейшее правило: забегать наперед в изложеньях отсель не дозволено. Соблюдаем постольку посильную очередь в датах и всяческих путных событиях. А кто набрехал, обрываем мазилу поправками и выводим на факты до тютельки.
Установку народ поддержал. Так толпой к сундуку и поехали.
Разобрались сперва с Пуподыхом: впечатлили Флорина про то, как, шуткуя, бандюги подставили хлюпика, а Вылко, наивец, возьми и прими на веру, будто тот обрюхатил бездумщицу сирую Бенку… Кто ему на слюнтяя того подсказал? Да неужто, Людмилчо, и сам не припомнишь?.. Не может такого, чтоб ты не слыхал. Это все город тебя на родное былье обокрал.
Что ж, вдруго́рядь тады заведу тебя в курсы. А хочешь, отсрочим на завтра?.. Ну и настырный же ты, офицер Баламазов! Где такое упрямство отъел, изумляюсь. Честно-честно! Без слов на тебя восхищаюсь, потому как одни матюги для восторгов остались… А представь-ка назад те орехи, что с Недялко ты хлопчиком тибрил. Кабы я не метлой проучил, а заушно б тебя в отделенье стаскал, разве ж ты б в полицаи оттуда достигнул?.. Ничего не шантаж. Просто вслух размышляю о наших неравных рассоренных совестях… Так точно, сугубо по теме!.. Допрос так допрос…
И на чем мы с тобою застряли, допросчик?.. Ага, на сестре подлеца с Пуподыхом.
Шагну я с того, что по нашей округе в то время гайдук[20] заправлял. Под шайку свою три села, как солому подошвой, подмял. Всех безбедных крестьян вплоть до Садово вымогал понедельно на дани: то в Катуницу брата нашлет, то по Кочово ночью шныряет, а то спозаранки заявится сам в Дюстабан. Живодар его звали, так наши его окрестили тайком в живодеры. Грабил он скромно: пускай и с запасом продукты взимал, на деньги хозяев не зарился – те он с турок убитых вдокон собирал: посрывает мошны с перерезанных шей и оставит тела на подкормку волкам и стервятам. Статен был, говорят, зычен басом, мордастый лицом, посечен по щекам где не оспой, то шрамами, но для бабьего племени гожий, повадный, кой-кому из резвуний так даже собою и лакомый. Вот же ж Вылкова Бенка на этого черта сердечком простяшным и клюнула! На него или братьев его – различать нам сегодня невежливо, но что кто-то из них заморочил дуреху на пузо, то слюбилось развратом доподлинно. Были, правда, и злыдни, умножавшие сплетнями без того горемычный позор: дескать, носит под ребрами тройню, потому как тремя опузырена.
Два другие, Кубрат с Драгостином, уступали старшому не только годами, но также и в ростах, хотя посредь наших сельчан бесперечь возвышались верзилами. Так ли, сяк – и́х породное семя в девице бедой забродило. Сам же Вылко еще маловат был, оттого и напухлость ее под дневной опояской не сразу приметил. Говорят, очарованный был гайдуками: глазом к ним как прилепится, так и всех обожает взахлеб до грабовника, где они от проклятий от наших в деревьях укроются.
Ну и вот. По второй или третьей зиме скуролесила шайка разгром, да такой, что похуже привычных от них изуверств показался – вплоть на наше повальное к ним омерзение.
В сочельный канун на дороге царьградской[21], в сугробах, подсидели вельможную свиту. Для разминки побили из ружей охрану, слуг раздели в кальсоны и замерзать под метели шугнули. Следом взялись за господ. Тех, говорят, было трое – по голове на бандитскую дюжину, вот гайдуки в произвол и куражились: ковыряли дубинками грызла, кромсали в отрепки турецкие уши, хрустели нагайками ребра, потом повязали закланцев лопатка к лопатке и, словно сноп, откатили в сторонку, чтоб не мешали насилить закляпанных жен, а когда понатешились с бабами, размозжили с пощады им черепы и занялись разграблением скарбов. Как мешки и корзины наполнили, опрокинули в снег экипажи и кострами все в пеплы пожгли. Покась жгли, горлопанили песни, из бочонков сосали вино и плясали хоро[22] до упаду. Опосля потащили захваченных турок в сосновую рощу и до́ ночи там изгалялись, повторяя на пленных их же, османов, самих растерзания: хворостинами пятки хлестали, тушили об лбы чубуки, шпарили яйца крутым кипятком, а под конец, покрестивши разрезами груди, на колья сидайлом напялили. Вот такие, Людмилчо, герои тут мести работали! И сегодня тошнимся с их вспыльчивых удалей…
Как-то раз нам Закарий про космос вещал заведенно: безмерность пространства, времен бесконечность… Я же так понимаю: коли есть где на свете у нас бесконечность, нечего космосы шарить. Зараза сия к нам поближе небес обитает – в душах наших микробом засеяна. Ибо вот же: душа человечья в жестокостях бездны не чует. Думаешь, все уже, это последний рубеж, зверинее зверства вовеки не сдюжит, ан нет! В чем в чем, а в палачестве пыток затейность людская заминок не ведает.
В общем, убили нещадно разбойники турок и сами как будто в османы спорочились…
Что́ забыл помянуть: воевали разбоем вдали от налаженных лежбищ. А иначе б с бессытицы сдохли: кто ж кормежку им сжалует, ежели турки в отместку штыками крестьян, как убойных телят, забивают! В ряд построят и пальцем на смерть обрекают: ты! Отсчитают еще десять шапок и тыкают: ты. Часто даже не глядя случайную жертву себе назначают. За вельмож и поруганных жен сорок семь нипричемных болгар изничтожили. По двадцать – в Болярцах и в Садово, семь еще – в Чешнегирово. К нам-то тоже отряд заезжал, но сей раз никого не казнили, всего-то острогом пужали да плетьми полсела угостили. А еще в первый месяц держали дозоры с обоих концов, но потом отозвали назад – по причине вторично напавших снегов и бесплодности долгой простуженной службы.
Это, Людмилчо, касаемо турок. Что до самих гайдуков, то ходить в Дюстабан Живодар с живодерами на рожоны не рыпался. По всем вероятиям, пробавлялись охотами скудными, выходит, в скелеты давно исхудали: по зиме-то в лесах не особо жратвой разживешься, хоть кидайся повсюдно тем златом царьградским.
Нашим такие расклады пришлись по нутру: отдохнуть от своих навещателей дюстабанцы давно разевались, потому и весну на порог торопили не слишком.
Однако ж уже к февралю Вылко их оптимизьмы в шиши подрубил. Зашустрил по дворам, напирая на то, что обязанный веским заданиям. В подтвержденье запясток показывал, на котором алело клеймо: буква «Ж» в три крестовых насечки – ну да, точно он, завитушечный знак Живодара. Теперича пробуй, ропщи на поборы!
Кое-как сочинили поклажу, под сеном на сани сверстали, а чтоб не блудился, вручили посыльнику ржавый фонарь. Остальное уж сам, говорят. «А лошадку?» – «Лошадки не будет». – «Разве ж я все допру?» – «Не допрешь». – «Тады нужно лошадку». – «Вот у них и возьмешь, коль не всех оглоеды в копыта пожрали». Насмехались, конечно, а как же! Хорошо не начистили рыло: чего лоботряс в лес поперся?! Те небось подловили, рукав закатали и давай выжигать нам на страхи жукастую букву. А из дома б не дрыгался, был бы всем здесь еще перекур.
Вышел Вылко уже потемну. В сани, правда, впрягаться не стал: обмотался под шубу тройным кушаком, а что в тело не влезло, навьючил горбом на завоек. Понеже ружья́ не сканючил, ятаганом отцовским заправился. Пробирался до леса на ощупь, луной, а в деревья шагнул – и фонарь засветил, помигал меж стволов вороватым пятном и счернел.
В Дюстабан воротился к утру, но уже без горба, без кожу́ха овчинного и без оружия. Пораскинули наши умом и придумали: верно, совсем гайдуки очертели, ежели грабят в ночах замухрышку безвредного. Как говорится, за что поборолся, на том и портки пропорол. Пожалеть не жалели, потому как жалели себя и на жмотство свое запоздало ерошились: дескать, не ждали взанарок весну, вот в село и нагрянет квитаться ненастьями. Удобней медведя из спячки рогатиной злить, чем попасться в морозы на глаз живодерам. Может, и стоило выдать под сани лошадку. А так – что принес провиянт на себе, аппетиты смягчить на ватагу такую, видать, бедуну не смастачилось.
Покуда себя угнетали в испуги, Вылко уж занялся делом. Сперва услыхали, как будто мутузит сестру, а затем и воочно увидели. Бенка бежит без платка по селу и кудахчет: кво-кво да кво-кво, брат за ней нагибается, хвать за волосья и пинками растрепе галопы пришпоривает. Потом разглядел в преспективах толпу и погоней своей захромал. Как наслушался вдоволь острасток, шапку кнутом почесал, звезданул о канавку соплей и затопал обратным маршрутом в хибару.
Бабы приветили охами Бенку и давай от квохтаний ее утешать, теребить ей одежу, порватые срамы по ней оправлять. (Мать-то обоих, не вспомнил сказать, лет уж шесть померла. С той поры на двоих брат с сестрой нищетой развалюшной и маялись.) Мужики, поплевавши на снег, разошлись кто куда в невеселых своих самочувствиях. От стыдов отогреться деваху к себе увела Парашкева, прабабка известного Чочо. Покормить нарядила на чистые скатерти. Любопытно ей было, какой делибаш отряхнулся приблудом в подол, вот и щедрость дурынде явила, приправив ее внапоказ сердоболием. Не гнушалась позванка не токмо стряпней, а и спелым винцом, языком заплелась, но хозяйке имен не сболтнула и на каждый окольный вопрос заливалась навзрыдно слезами.
С той минуты, как Вылко разгольным в нательник из леса причапал, не минуло даже и часу, а он уж вторую диверсию нашим под дых отчебучил: в блески серп наточивши, прошелся в обходы цыган до изгойной лачужки. Заскоблился по дверке, приятно позвал, а едва недомерок открыл, коротким, искристым вдвиженьем ему по хребтину внедрился. Представляешь такое кино? Постучался в занозные доски и, чуть Пуподышка себя отворил, продырявил мальца, не уважив его напоследки и словом! Потом обождал, покась жизнь в шантрапёнке обмякнет, ноги ширше расставил и вниз наблюдал, как она засочилась ручьем, а когда измельчала, отбросил в сугроб, серп в снега окунул и, взболтавши шипучую пену, уволок бездыханца в лачужку. Там недолго порыскал, что́ нашел, барахлишко в мешочек согнул, отодрал с Пуподыха тряпье и, нарвавши лоскутья, законопатил настенные щели. Как сделал, пнул наземь жаровню и сверху на угли облезлый тюфяк нахлобучил. Выйдя вон, хлопнул дверь и булыгой с наружей подпер, выпростал спички, почиркал в седой коробок и пождал, чтобы за́мять назад отшмыгнула, потом юркнул спичку к торчащим лохмотьям и дал полизать огоньку. Обошедши лачугу кругом, помогал по прорехам, где гасло, разгораться ухватней на жестком ветру. Убедившись, что выполнил все, как в расчетах себе позадачил, отошел на пригорок. Там уселся на корточки и, в упоры не слыша за тощей спиной разворошенный дымами табор, холодным, заметливым взглядом подробно следил за пожаром да хищно, в обжоги, худую цигарку смолил.
Первыми были на месте цыгане. Порывались побить, но запнулись: он их будто и криков сквозь пыхи не высмотрел. Поведение мангалов смутило. Замявшись, помчались в село выкликать на расправу болгар. Те покамест враждой заручались, подкрепляли ее тесаками, цепами да вилами, пламя в чадящий увалок под вьюжным нытьем догорелось. Вылко сидел там все так же на корточках, но уже не курил, а протяжным вниманьем водил им по взмокнувшим лицам. Стушевались маленько сельчане и спрашивают: «Это что ж ты, паршивец, сейчас сбезобразил?» – «Да так, – отвечает. – Возмездье вершил». – «И какое такое над кем же возмездие? Чем, хамлюга, тебе Пуподых насолил?» – «Будто сами не знаете». – «А вот и не знаем!» – «Ну а Бенку, сестру мою, кто надругал?» – «Да откуда ж нам ейные шлендры доступны понятиям?! У ней бы об них и спросил». – «Так спросил же. Молчанкой перечит. А добить мне до правды ее вы надысь баррикадой своей ограничили».
Ну и как им теперича быть? Убивать его всяко невыигрышно – мало что труд неприличный, так еще и финалом убыточен: буде даже сойдет им деяние с рук, на кого им повесить брюхатую Бенку? Лишний рот никому невпопад, а тем более два – как ублюдка простаха сродит, так ведь минимум два и нагрузятся. Пуподыха, конечно, им жалко, но все ж не в дурманы мозгов, чтоб самим принимать адский грех себе на душу. Передать хулигана властям? Вроде легче всего, но и вдребезги им унизительно. К тому же – чреватая Бенка!..
Поглядели они на поганца, поворчали в него укоризнами и, носы в рукава защищая, возвратно к семействам попятились. А чего им еще оставалось, Людмилчо? Пуподых – тот и сам в их глазах не дорос дополна в человеки. Может быть, всплошь не животное был, но и вовсе не божье подобие, так что…
И потом, документов о нем – ни бумажки казенной, ни буковки. Будто сроду в живых не вертелся безродным наличием. Ну а что от его неказистости вместе с лачужкой обуглилось – то цыгане с певучим прискорбьем землицей поверхно припудрили, да и снегом пушистым наутро в пупырь позагладило. Поп к тому бугорку вперевалку приохал, окрестил бормотаньем могилку невидную, мужичонки по чарочке в хмуростях выпили, бабы плюхнулись на пол коленками, у иконок слезой заволочной почистили совести, – вот и все Пуподыху от добрых людей поминание…
С той поры повстречаться на улице с Вылко дюстабанцы не шибко таранились. Однако ж, ни разу не встретив его за три дня, межсобойно мандражем встревожились: мол, где этот бес от приглядов села запропался? Когда пред собой сатану не видать, почитай, за твоим же загривком пристроился скорыми кознями.
Но потом разобрались и ахнули: заявился средь белого дня в том же прошлом кожухе, с былым ятаганом за поясом, а на утлом предплечье берданка незнамая тенькает. Прогулялся зазывными свистами по глазастой замолкнувшей улице, привалился вальяжно на камень Слоновый у площади, навкрест выкинул ноги, шапку в брови сровнял и полез за махоркой в нездешний, узорный прострочкой кисет. Потому что никто на привет не спешил, пару раз, покурив, стрельнул в воздух, а как наши сошлись в круг послушать, даже зад свой не счел отрывать, шапку набок поправил, зевнул и пролаял с низов одноглазый приказ: «Отныне я тоже гайдук. Живодаровой банды засланник. Отныне село Дюстабан всем гуртом переходит в мои попечения. Так что жить дорожите – признанием слушайтесь. Завтра к рассвету мне сани укрывно харчами наполните. Да кобылу сей раз не забудьте. Или мне самому по дворам лошадь выглядеть?» – «Ничего, – отвечают. – Ты на безделки себя не мозоль. Есть животинка у нас на примете удачная. А осел, например, для саней не согласная пара составится?» – «Согласная, ежели парой назначить не нашим саням, а сварливым супружницам вашим. Нам извольте сготовить в согласье к запросам кобылу». – «А она, извиняемся, токмо туда да сюда? На единую ль ходку усилья лошадки рассчитывать? То бишь раз в три недели к саням прицеплять нам вперед расписанья вменяются? Тогда мы совсем и не против. Тогда мы насквозь даже за». – «Еще бы не за! Или есть грубияны, коим с завистей высказать против неймется?» Спросил и пощелкал затвором, а после берданку над ухом поднял и бездонным зрачком ее колет им в зыбкие души. «Ничего, – отвечают. – Мы – за». На том по рукам и поладили.
Отсель началась в нем разбойничья служба. Это наши уж после прознали, как оно там в лесу станцевалось. Оказалось, в грабовник-то Вылко отнюдь за клеймом не выныривал: самолично его на запястке у печки своей приуро́дил. Запомнил ту букву на крупе коня Живодарова, сажей ее намазюкал и повторить кузнецу заказал – не у нас, а в гвоздильне при въезде в Катуницу. Объяснил, что придумал он брошкой сестрицу развлечь, вот с испода у «ж» безотказный коваль и скулёмал приваркой иглу. Между прочим, ту брошку ей Вылко не сжулил: только Бенка весной байстрюком разрешилась, на корзинку с дитятей ее подколол – недомолвкой железной на хрупкое их примирение. Роженица милость его приняла, да и как не принять, коли братца до колик боялась и не меньше других просебяшно его ненавидела?..
Породился младенец собой не чета Пуподыху – мордаст, ненаеден и зыками властен, а тельцем с пеленок смотрелся могуч, коренаст. Туда же пеняли, что пипкой мясистой раскидист и толст инородно огузками. Вылитый, говорят, живодер, но каков из троих – беспонятная тайна.
К апрелю тому по клочкам подсобрали историю Вылковой дружбы с анафемской шайкой. Шептались, что он к ним приперся на собственный страх – в тот февраль, где с нас дани одним лишь запястком содрал, а кобылку еще смухлевать не надыбал. Мол, плутал с фонарем по грабовнику и тихонько трех братьев по имени звал, вот, бродун, оплеух и дозвался! Хотел угодить, да и в плен угодил: заподозрили взмутчики в нем не подмогу, а даже напротив – предателя. Думали, турки его подослали, чтобы после им стёжки заветные выдал. Близко были повесить на первом суку, но потом снизошли погодить, сделикатились: а что, как лопух не доносчик? «Басурмане доносчику хоть бы на санки потратились – для достоверности видного образа, энтот же с пары затрещин продрог, засинел да штаны обмочил. А ну как сикушник не брешет?..»
Засим начинают его тормошить: «Уж не брат ли ты Бенки?» – «Брат, старшой, точно так». – «Той девахи, что с краю села в халабуде живет?» – «Той самой тот самый я братец, притом отприродно и папкой, и мамкой роднющий». – «Да чего ж ты ее, коли брат и к тому же старшой, не сберег?» – «Это как это? Только что от нее, очень даже живая меня провожала». – «Конечно, живая! Ижно с избытком, живая вдвойне». И давай на него хохотать. Он не может в их смехи проникнуть: «Это как это? И отчегожно вдвойне?» – «А с того, что в ней брюхо надуто, непраздное». – «Это кто это? Дяди, об чем ваш обидный намек?» – «А об том, что весною племяшем сбогатишься». – «От кого ж мне привалят такие обузы? Выкликать на отцовство кого мне и где?» – «А вот это вопрос заковырный, весьма многосложного свойства. Даже нам на единый ответ затруднительный». И гогочут, держась за бока. Потом кто-то из них сквозь смешливые слезы признание стоном выдавливает: «Если честно… зятек у тебя молодец хоть куда… Кажись, Пуподыхом зовут». Тут уж все бандюганы попадали наземь и в трясучке по снегу катаются. С Рождества, как османов покончили, не терпели веселья подобного.
Наигрались ребятки дурачиться, из кувшинов винишко повыпили и, соскучившись зряшным невольником, погнали его восвояси. Перед тем по всегдашней привычке немного на вещи ограбили.
Как прознали в селе про события? Да впоследствии кто-то из шайки обмолвился. А сначала у нас лишь гадали впустую и слушались. Каждый месяц по разу, по два громоздили на бричку впритык подношения, еще и кобылу в удобства поездок заложат. Таким вот манером с остатней зимы и таскал окаянный ходок контрабанду. Управлялся столь споро, что к лету поспело ему снисхождение – оброки взимать и с имущих Болярцев, и с жлобского Кочово. Что его, что окру́гу режимы поставок устроили: лицезреть живодеров мечтанием нигде не намучились.
Вылко вел себя строго, однако стремглав не ярился. Коль угрозами сыпал, залишнюю гневность в себе притеснял: желваками побесится да локотками подергает – глядишь, и слиняет багровостью в бледности. Сердился чрез кашель, зажимно. Обзываться на наших нерях не отвиливал, но дюже скандальную брань притуплял, прикладом по мордам не шлепал, на подношения стопки не морщился, но и так, чтобы хрюкать, ракию не жрал, да и баб не ронялся щипать. Фамильярства соседей в обрез пресекал, оттого и расспросы про фарт свой не жаловал. «Как же так, – домогаются наши, – гайдукам ты в доверье без мыла протиснулся? По каким бы невнятным причинам тебя мимо нас полюбили?» Огрызнется на это: «Видать, заслужил. Ну а ежели кто сумлевается, нехай докладает претензию». Сам в обнимки берданку голубит, на нервах звенящих издевкой пиликает.
Год с лишком тягомотились наши в неведениях. А по новой весне воротились в село лизитеры – в назойных желаньях субботу на Лазаря[23] спраздновать. Одичали в лесах и землянках до воев, стосковались по людям живым, распоясным, наипаче другого соскучились женским присутствием, вот всем гамом сюда отдохнуть и нагрянули. Сперва подтянулись на берег и, обомлев, любовались на барышень – как те вперегонку себе на замужье по речке венки запускают. Потом всколыхнулись чубами и в хороводы оравой пристроились, под вопли гудулок[24] с кавалами[25] запылили притопом к наряженной площади. Там разбились на смехи и кучки, блестели опасно румянцем, крутили усы, вспоминали помягче слова, хвалились нахрапно отвагой и до утра вдрабадан гулеванили: пост презревши, в обливку хлестали вино, орали скоромные песни, вприпрыжку плясали и, сверкая клинками, наводили на девок приманчивый, радостный ужас. Кой-кому по стогам в заполошную ночь наломали с азартов невинностей, а к рассвету на седла вскарабкались и бессонницу нашу покинули.

