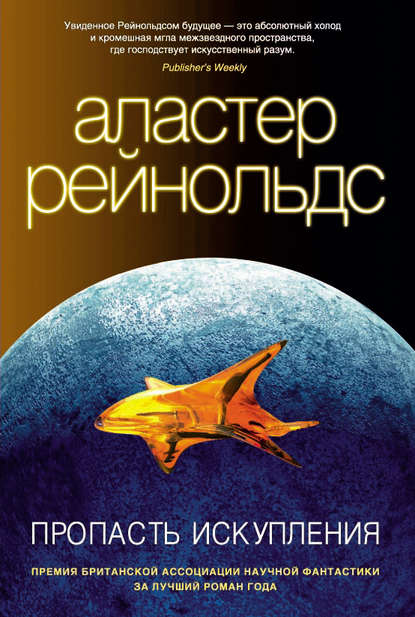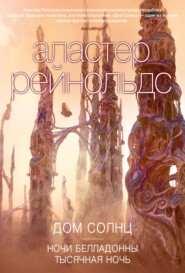По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пропасть Искупления
Автор
Серия
Год написания книги
2003
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вокруг не раздавалось ни звука – Куэйхи слышал только собственное дыхание да изредка стук льдинок, скатывающихся по следу лавины, вызванной кораблем, когда в падении он задел кромку обрыва. Помимо моста, смотреть было не на что. Но вдруг Куэйхи услышал доносящуюся откуда-то издали органную музыку. Поначалу она была тихой, но потом ее источник стал приближаться. Куэйхи понял: достигнув грозного крещендо, мелодия наполнит его душу радостью и ужасом.
И хотя мост выглядел как прежде, в черном небе под ним чудились прекрасные церковные витражи: квадраты, треугольники, ромбы мягкого радужного сияния, словно окна, открывающие вид на что-то еще более прекрасное и величественное.
– Нет! – сказал Куэйхи.
Но на сей раз в его голосе не было твердости.
Прошел час. Бортовые устройства одно за другом испускали дух, на пульте гасли красные надписи. Но пока ни один отказ оборудования не сократил шансы пилота на выживание. Кораблик не проявлял намерения взорваться, в один миг избавив Куэйхи от страданий.
Нет, думал Куэйхи, «Дочь мусорщика» сделает все от нее зависящее, чтобы поддерживать в хозяине жизнь до последнего вздоха.
Эта трудная работа почти истощила силы машины. «Дочь» непрерывно передавала сигнал бедствия, но к тому времени, как «Доминатрикс» получит сигнал, пилот уже будет два-три часа как мертв.
Куэйхи рассмеялся: юмор висельника. Он всегда считал «Доминатрикс» исключительно разумным механизмом. По меркам большинства космических кораблей, как и по меркам любой техники, не управлявшейся субличностями как минимум гамма-уровня, это так и было. Но стоило делу принять по-настоящему серьезный оборот, и выяснилось, что этот сверхмощный интеллект ровно ничего не стоит.
– Что же ты, корабль? – спросил Куэйхи.
И снова рассмеялся. Вот только теперь смех перемежался рыданиями – от жалости к себе.
Куэйхи надеялся на помощь вируса, но ощущения, которые тот порождал, были слишком поверхностными. Что проку от этого тонкого, как бумага, фасадного слоя? Да, вирус воздействует на те точки мозга, где возникают религиозные чувства, но он не подавляет другие области сознания, и те безошибочно распознают новую веру как искусственную, индуцированную.
Он, безусловно, ощущал некое святое присутствие, но одновременно с полной отчетливостью понимал: это всего лишь игра нейроанатомии. На самом деле тут ничего божественного нет: органная музыка, витражи в небе, ощущение чего-то беспредельного, безвременного и чрезвычайно участливого порождено лишь нейронными связями, вспышками активности нейронов и синаптическими щелями.
Больше всего в этот миг Куэйхи нуждался в утешении – и не получил его. Он был всего лишь безбожником с дрянным вирусом в крови. У него кончался воздух. У него кончалось время. Скоро он будет забыт. Как и имя, данное им планете, на которой он разбился.
– Прости, Мор, – сказал Куэйхи. – Я свалял дурака. Облажался по полной.
Он стал думать о ней, такой далекой, недосягаемой… и вспомнил стеклодува.
Куэйхи не вспоминал стеклодува уже давно, но ведь он давно не оставался надолго один. Как звали этого человека? Да-да, Тролльхаттан. Куэйхи случайно встретил его на Пигмалионе, одном из спутников планеты Парсифаль в созвездии Тау Кита, в торговом пассаже с микрогравитацией.
Там проходила выставка произведений искусства из стекла. Работающий в невесомости скульптор Тролльхаттан, когда-то бывший угонщиком, но порвавший со своей фракцией, имел дополнительные механические конечности, а его лицо напоминало слоновью шкуру с рубцами от давних ран – ему неумело удаляли меланомы радиационного происхождения.
Тролльхаттан творил из стекла восхитительные ажурные конструкции, целиком заполняющие помещения; иные настолько нежные, что не выдерживали даже слабой гравитации главного спутника Парсифаля. Среди его шедевров невозможно было найти два похожих. Куэйхи любовался стеклянными планетариями, поразительно детальными и работавшими со сверхъестественной точностью. Его восхищали стаи из тысяч птиц, соединенных друг с другом тончайшими кончиками крыльев. Дух захватывало при виде громадных косяков, причем у каждой стеклянная чешуя имела уникальный оттенок и блеск; желтые, желтоватые, синие, окаймленные розовым перья казались подлинным чудом. А еще эскадрильи ангелов, и сражающиеся галеоны эпохи боевых парусников, и искусные реконструкции великих космических битв.
На некоторые изделия было страшновато смотреть, словно одного взгляда хватило бы, чтобы нарушился зыбкий баланс света и тени, чтобы скрытая где-нибудь трещинка мигом разрослась и поставила всю конструкцию на грань существования.
Однажды на открытии выставки самопроизвольно взорвалась стеклянная картина Тролльхаттана, разлетевшись на осколки не крупнее пчелы. Было ли так и задумано автором для пущего эффекта, осталось тайной. Зато не вызывало сомнений другое: все без исключения изделия Тролльхаттана драгоценны. Скульптор соглашался с ними расстаться лишь за огромные деньги, а уж цену вывоза смешно было даже обсуждать. Транспортировка одной такой покупки с Пигмалиона разорила бы небольшое демархистское государство. И не то чтобы исключалась разборка и упаковка по частям, но перевозка в космосе не давала ничего, кроме битого стекла. Любые меры предосторожности оказывались недостаточными, поэтому все уцелевшие работы Тролльхаттана находились в системе Тау Кита. Богатые люди целыми кланами перебирались на Парсифаль только для того, чтобы хвастаться приобретенными инсталляциями великого стеклодува.
Ходили слухи, что где-то в межзвездном пространстве медленные автоматические баржи несут на борту сотни изделий Тролльхаттана, направляясь к другим солнечным системам (названия этих систем у разных рассказчиков звучали по-разному) со скоростью в несколько процентов от световой; эти рейсы оплачены много десятилетий назад. Само собой, тот, кому хватит изобретательности перехватить и ограбить эти баржи, не переколотив их содержимого, баснословно разбогатеет. В те времена, когда по существующим чертежам можно было недорого воспроизвести практически любую вещь, едва ли не единственную ценность представляли авторские работы, чье происхождение не вызывало сомнений.
Во время своего пребывания на Парсифале Куэйхи всерьез интересовался возможностью приобрести шедевры Тролльхаттана. Даже провел переговоры с другим мастером, уверявшим, что в его силах изготовить высококачественные копии: помещение заполняется стеклом, а потом миниатюрные сервороботы выгрызают лишний материал. Куэйхи присутствовал на демонстрациях работы фальсификатора: результат был неплох, но далек от идеала. Воссоздать спектральную палитру Тролльхаттана не удавалось никому во Вселенной; разница между оригиналом и подделкой не уступала разнице между алмазом и его копией из льда.
В любом случае ключевую роль играло происхождение скульптур. Вот если кто-нибудь убьет Тролльхаттана, тогда рынок сможет принять подделки.
Куэйхи решил осторожно выяснить, нет ли у ваятеля ахиллесовой пяты, – вдруг найдется компромат, и тогда можно будет шантажировать стеклодува, давить на него в процессе торга. Если Тролльхаттан согласится закрыть глаза на появление подделок на рынке или даже заявить, что не помнит, когда делал ту или иную инсталляцию, – глядишь, и получится навариться на этом.
Но Тролльхаттан оказался недосягаем. Он не вращался среди богемы, не выступал с красивыми речами на благотворительных мероприятиях. Знай себе дул стекло.
Разочарованный, готовый отказаться от своей затеи Куэйхи все же задержался на спутнике и осмотрел часть выставки. Его холодный, сугубо прагматический интерес к искусству Тролльхаттана быстро уступил место подлинному благоговению.
К тому времени, когда среди гостей появился Куэйхи, стеклодув уже соорудил в невесомости сложное растение с прозрачным зеленым стеблем и листвой, с многочисленными бледно-рубиновыми роговидными цветками. А теперь Тролльхаттан мастерил возле одного из цветков деликатную фигурку мерцающего голубого существа. Что это колибри, Куэйхи понял лишь после того, как Тролльхаттан выдул тончайший, плавно изогнутый клюв, и тут стало ясно: колибри. От цветка к клюву протянулась янтарная дуга толщиной в палец, и Куэйхи решил, что на этом все, птичка останется парить перед растением, ничем с ним не соединенная. Но тут изменился угол освещения, и стало ясно, что между кончиком клюва и рыльцем цветка протянута наитончайшая стеклянная нить, золотое волоконце, словно последний лучик планетного заката. И он догадался, что видит язык колибри, сделанный из стекла.
Наверняка скульптор рассчитывал на эффект, потому что остальные зрители заметили язычок птицы почти одновременно с Куэйхи. И хотя Тролльхаттан не мог не наблюдать реакцию публики, никакие чувства не отразились на его лице.
Вот тогда-то и разочаровался в стеклодуве Куэйхи. Тщеславие этой гениальной натуры, решил он, достойно лишь порицания, наигранная бесстрастность так же греховна, как и любое другое проявление гордыни. Однако увиденный только что фокус вызывал истинное восхищение. «Что ты испытываешь, – думал Куэйхи, – когда тебе удается хотя бы на миг озарить будничную жизнь сиянием чуда? Зрители, пришедшие полюбоваться искусством Тролльхаттана, живут в эпоху чудес и диковин. Но они, судя по всему, давно не видели ничего удивительнее и прекраснее, чем этот блеснувший язычок колибри».
По крайней мере, это было справедливо в отношении самого Куэйхи. Блеск стеклянной нити тронул его душу, когда он меньше всего этого ожидал.
Вот и сейчас он размышлял о язычке колибри.
Когда бы обстоятельства ни разлучали его с Морвенной, он непременно воображал связующую их тягучую нить горячего стекла, тоненький золотистый язычок птицы. По мере увеличения дистанции этот язычок терял в толщине и прочности. Но пока удавалось хранить в мыслях сей образ, Куэйхи считал, что любимая не потеряна, и одиночество не казалось ему полным. Он все еще чувствовал присутствие Морвенны, трепет ее дыхания доносила до него вибрирующая нить.
Однако теперь она истончилась до предела, и дыхания Морвенны он больше не осязал.
Куэйхи взглянул на хронометр: прошло еще полчаса. Воздуха осталось самое большее на тридцать-сорок минут.
Ему кажется или атмосфера на борту уже бедна кислородом, у нее появился вкус затхлости?
Хела, год 2727-й
Рашмика первая увидела караван. В полукилометре, частично скрытый низкими торосами, он продвигался по той же тропе, что и ледокат. Девушке, сидящей в быстрой машине Крозета, казалось, что караван еле ползет, но стоило подъехать поближе, как стало ясно, что это не так: машины были гораздо больше ледоката и только из-за своих габаритов казались тяжеловесными и неповоротливыми.
Колонна, растянувшаяся примерно на четверть километра, состояла из четырех десятков машин. Они шли двумя плотными колоннами, практически нос к корме. Их разделяло не более двух метров. Как успела заметить Рашмика, среди них не было двух похожих. Возможно, некоторые транспортные средства создавались однотипными, но потом их переделывали, надстраивали или, наоборот, обрезали, всячески уродовали по желанию хозяев. На крышах громоздились разнообразные дополнительные конструкции в окружении крепежных лесов. И где только можно, из баллончиков с краской были набрызганы символы религиозной принадлежности. Иногда значки выстраивались в сложные цепочки, сообщая о зыбких союзах между основными церквями. На крышах некоторых машин были установлены широкие плиты, все наклоненные под одним и тем же углом посредством блестящих поршневых механизмов. Сотни выпускных клапанов стреляли паром.
Большинство машин передвигались на огромных, величиной с дом, колесах, по пять или шесть пар на каждую. Другие неторопливо прокручивали массивные гусеницы или переставляли членистые ноги. Две скользили на лыжах, как ледокат Крозета. Одна ползла на манер личинки древесницы, поочередно проталкивая вперед сегменты механического тела; Рашмика могла лишь догадываться о том, каким образом приводятся в движение части этой штуковины.
Несмотря на различия в конструкции, все машины ехали с одинаковой скоростью, имея возможность соблюдать ее настолько точно, что между ними были даже протянуты пешеходные мостки и крытые переходы. Эти конструкции скрипели и гнулись, так как дистанция между звеньями колонны менялась в пределах метра, но не рушились.
Крозет двинулся параллельно каравану, по «обочине» тропы, потом прибавил скорость, обгоняя машины. Хрустя льдом и камнями, огромные колеса вздымались над ледокатом. Рашмика с тревогой поглядывала на водителя, державшего джойстики управления. Что, если он на секунду отвлечется или рука дрогнет? Тогда эти колеса вмиг раздавят их.
Но Крозет выглядел совершенно спокойным, словно уже сотни раз проделывал этот трюк.
– Что ты ищешь? – спросила Рашмика.
– «Короля», административную машину, – тихо ответил Крозет. – Там ведется весь бизнес. Обычно «король» идет в голове колонны. Ох и большущий же караван! Давно такого не видел.
– Здорово, – проговорила Рашмика, любуясь исполинами, что двигались рядом с крохотным ледокатом.
– Это еще что! – ухмыльнулся Крозет. – Средней величины собор гораздо больше этого каравана. Соборы идут медленно, но никогда не останавливаются. То есть они могут остановиться, но это очень хлопотно. Не проще, чем ледник затормозить. Рядом с этакой громадиной даже меня мандраж пробивает. Пожалуй, я бы предпочел, чтобы они не двигались…
– Вот «король», – указала Линкси на проем в ближней колонне. – На той стороне, милый. Придется объехать.
– Твою мать!.. Вот этого я точно не люблю.
– Не рискуй, давай объедем сзади.
– Черта с два! – Крозет улыбнулся, показав дрянные зубы. – У меня что, яиц нету?
И хотя мост выглядел как прежде, в черном небе под ним чудились прекрасные церковные витражи: квадраты, треугольники, ромбы мягкого радужного сияния, словно окна, открывающие вид на что-то еще более прекрасное и величественное.
– Нет! – сказал Куэйхи.
Но на сей раз в его голосе не было твердости.
Прошел час. Бортовые устройства одно за другом испускали дух, на пульте гасли красные надписи. Но пока ни один отказ оборудования не сократил шансы пилота на выживание. Кораблик не проявлял намерения взорваться, в один миг избавив Куэйхи от страданий.
Нет, думал Куэйхи, «Дочь мусорщика» сделает все от нее зависящее, чтобы поддерживать в хозяине жизнь до последнего вздоха.
Эта трудная работа почти истощила силы машины. «Дочь» непрерывно передавала сигнал бедствия, но к тому времени, как «Доминатрикс» получит сигнал, пилот уже будет два-три часа как мертв.
Куэйхи рассмеялся: юмор висельника. Он всегда считал «Доминатрикс» исключительно разумным механизмом. По меркам большинства космических кораблей, как и по меркам любой техники, не управлявшейся субличностями как минимум гамма-уровня, это так и было. Но стоило делу принять по-настоящему серьезный оборот, и выяснилось, что этот сверхмощный интеллект ровно ничего не стоит.
– Что же ты, корабль? – спросил Куэйхи.
И снова рассмеялся. Вот только теперь смех перемежался рыданиями – от жалости к себе.
Куэйхи надеялся на помощь вируса, но ощущения, которые тот порождал, были слишком поверхностными. Что проку от этого тонкого, как бумага, фасадного слоя? Да, вирус воздействует на те точки мозга, где возникают религиозные чувства, но он не подавляет другие области сознания, и те безошибочно распознают новую веру как искусственную, индуцированную.
Он, безусловно, ощущал некое святое присутствие, но одновременно с полной отчетливостью понимал: это всего лишь игра нейроанатомии. На самом деле тут ничего божественного нет: органная музыка, витражи в небе, ощущение чего-то беспредельного, безвременного и чрезвычайно участливого порождено лишь нейронными связями, вспышками активности нейронов и синаптическими щелями.
Больше всего в этот миг Куэйхи нуждался в утешении – и не получил его. Он был всего лишь безбожником с дрянным вирусом в крови. У него кончался воздух. У него кончалось время. Скоро он будет забыт. Как и имя, данное им планете, на которой он разбился.
– Прости, Мор, – сказал Куэйхи. – Я свалял дурака. Облажался по полной.
Он стал думать о ней, такой далекой, недосягаемой… и вспомнил стеклодува.
Куэйхи не вспоминал стеклодува уже давно, но ведь он давно не оставался надолго один. Как звали этого человека? Да-да, Тролльхаттан. Куэйхи случайно встретил его на Пигмалионе, одном из спутников планеты Парсифаль в созвездии Тау Кита, в торговом пассаже с микрогравитацией.
Там проходила выставка произведений искусства из стекла. Работающий в невесомости скульптор Тролльхаттан, когда-то бывший угонщиком, но порвавший со своей фракцией, имел дополнительные механические конечности, а его лицо напоминало слоновью шкуру с рубцами от давних ран – ему неумело удаляли меланомы радиационного происхождения.
Тролльхаттан творил из стекла восхитительные ажурные конструкции, целиком заполняющие помещения; иные настолько нежные, что не выдерживали даже слабой гравитации главного спутника Парсифаля. Среди его шедевров невозможно было найти два похожих. Куэйхи любовался стеклянными планетариями, поразительно детальными и работавшими со сверхъестественной точностью. Его восхищали стаи из тысяч птиц, соединенных друг с другом тончайшими кончиками крыльев. Дух захватывало при виде громадных косяков, причем у каждой стеклянная чешуя имела уникальный оттенок и блеск; желтые, желтоватые, синие, окаймленные розовым перья казались подлинным чудом. А еще эскадрильи ангелов, и сражающиеся галеоны эпохи боевых парусников, и искусные реконструкции великих космических битв.
На некоторые изделия было страшновато смотреть, словно одного взгляда хватило бы, чтобы нарушился зыбкий баланс света и тени, чтобы скрытая где-нибудь трещинка мигом разрослась и поставила всю конструкцию на грань существования.
Однажды на открытии выставки самопроизвольно взорвалась стеклянная картина Тролльхаттана, разлетевшись на осколки не крупнее пчелы. Было ли так и задумано автором для пущего эффекта, осталось тайной. Зато не вызывало сомнений другое: все без исключения изделия Тролльхаттана драгоценны. Скульптор соглашался с ними расстаться лишь за огромные деньги, а уж цену вывоза смешно было даже обсуждать. Транспортировка одной такой покупки с Пигмалиона разорила бы небольшое демархистское государство. И не то чтобы исключалась разборка и упаковка по частям, но перевозка в космосе не давала ничего, кроме битого стекла. Любые меры предосторожности оказывались недостаточными, поэтому все уцелевшие работы Тролльхаттана находились в системе Тау Кита. Богатые люди целыми кланами перебирались на Парсифаль только для того, чтобы хвастаться приобретенными инсталляциями великого стеклодува.
Ходили слухи, что где-то в межзвездном пространстве медленные автоматические баржи несут на борту сотни изделий Тролльхаттана, направляясь к другим солнечным системам (названия этих систем у разных рассказчиков звучали по-разному) со скоростью в несколько процентов от световой; эти рейсы оплачены много десятилетий назад. Само собой, тот, кому хватит изобретательности перехватить и ограбить эти баржи, не переколотив их содержимого, баснословно разбогатеет. В те времена, когда по существующим чертежам можно было недорого воспроизвести практически любую вещь, едва ли не единственную ценность представляли авторские работы, чье происхождение не вызывало сомнений.
Во время своего пребывания на Парсифале Куэйхи всерьез интересовался возможностью приобрести шедевры Тролльхаттана. Даже провел переговоры с другим мастером, уверявшим, что в его силах изготовить высококачественные копии: помещение заполняется стеклом, а потом миниатюрные сервороботы выгрызают лишний материал. Куэйхи присутствовал на демонстрациях работы фальсификатора: результат был неплох, но далек от идеала. Воссоздать спектральную палитру Тролльхаттана не удавалось никому во Вселенной; разница между оригиналом и подделкой не уступала разнице между алмазом и его копией из льда.
В любом случае ключевую роль играло происхождение скульптур. Вот если кто-нибудь убьет Тролльхаттана, тогда рынок сможет принять подделки.
Куэйхи решил осторожно выяснить, нет ли у ваятеля ахиллесовой пяты, – вдруг найдется компромат, и тогда можно будет шантажировать стеклодува, давить на него в процессе торга. Если Тролльхаттан согласится закрыть глаза на появление подделок на рынке или даже заявить, что не помнит, когда делал ту или иную инсталляцию, – глядишь, и получится навариться на этом.
Но Тролльхаттан оказался недосягаем. Он не вращался среди богемы, не выступал с красивыми речами на благотворительных мероприятиях. Знай себе дул стекло.
Разочарованный, готовый отказаться от своей затеи Куэйхи все же задержался на спутнике и осмотрел часть выставки. Его холодный, сугубо прагматический интерес к искусству Тролльхаттана быстро уступил место подлинному благоговению.
К тому времени, когда среди гостей появился Куэйхи, стеклодув уже соорудил в невесомости сложное растение с прозрачным зеленым стеблем и листвой, с многочисленными бледно-рубиновыми роговидными цветками. А теперь Тролльхаттан мастерил возле одного из цветков деликатную фигурку мерцающего голубого существа. Что это колибри, Куэйхи понял лишь после того, как Тролльхаттан выдул тончайший, плавно изогнутый клюв, и тут стало ясно: колибри. От цветка к клюву протянулась янтарная дуга толщиной в палец, и Куэйхи решил, что на этом все, птичка останется парить перед растением, ничем с ним не соединенная. Но тут изменился угол освещения, и стало ясно, что между кончиком клюва и рыльцем цветка протянута наитончайшая стеклянная нить, золотое волоконце, словно последний лучик планетного заката. И он догадался, что видит язык колибри, сделанный из стекла.
Наверняка скульптор рассчитывал на эффект, потому что остальные зрители заметили язычок птицы почти одновременно с Куэйхи. И хотя Тролльхаттан не мог не наблюдать реакцию публики, никакие чувства не отразились на его лице.
Вот тогда-то и разочаровался в стеклодуве Куэйхи. Тщеславие этой гениальной натуры, решил он, достойно лишь порицания, наигранная бесстрастность так же греховна, как и любое другое проявление гордыни. Однако увиденный только что фокус вызывал истинное восхищение. «Что ты испытываешь, – думал Куэйхи, – когда тебе удается хотя бы на миг озарить будничную жизнь сиянием чуда? Зрители, пришедшие полюбоваться искусством Тролльхаттана, живут в эпоху чудес и диковин. Но они, судя по всему, давно не видели ничего удивительнее и прекраснее, чем этот блеснувший язычок колибри».
По крайней мере, это было справедливо в отношении самого Куэйхи. Блеск стеклянной нити тронул его душу, когда он меньше всего этого ожидал.
Вот и сейчас он размышлял о язычке колибри.
Когда бы обстоятельства ни разлучали его с Морвенной, он непременно воображал связующую их тягучую нить горячего стекла, тоненький золотистый язычок птицы. По мере увеличения дистанции этот язычок терял в толщине и прочности. Но пока удавалось хранить в мыслях сей образ, Куэйхи считал, что любимая не потеряна, и одиночество не казалось ему полным. Он все еще чувствовал присутствие Морвенны, трепет ее дыхания доносила до него вибрирующая нить.
Однако теперь она истончилась до предела, и дыхания Морвенны он больше не осязал.
Куэйхи взглянул на хронометр: прошло еще полчаса. Воздуха осталось самое большее на тридцать-сорок минут.
Ему кажется или атмосфера на борту уже бедна кислородом, у нее появился вкус затхлости?
Хела, год 2727-й
Рашмика первая увидела караван. В полукилометре, частично скрытый низкими торосами, он продвигался по той же тропе, что и ледокат. Девушке, сидящей в быстрой машине Крозета, казалось, что караван еле ползет, но стоило подъехать поближе, как стало ясно, что это не так: машины были гораздо больше ледоката и только из-за своих габаритов казались тяжеловесными и неповоротливыми.
Колонна, растянувшаяся примерно на четверть километра, состояла из четырех десятков машин. Они шли двумя плотными колоннами, практически нос к корме. Их разделяло не более двух метров. Как успела заметить Рашмика, среди них не было двух похожих. Возможно, некоторые транспортные средства создавались однотипными, но потом их переделывали, надстраивали или, наоборот, обрезали, всячески уродовали по желанию хозяев. На крышах громоздились разнообразные дополнительные конструкции в окружении крепежных лесов. И где только можно, из баллончиков с краской были набрызганы символы религиозной принадлежности. Иногда значки выстраивались в сложные цепочки, сообщая о зыбких союзах между основными церквями. На крышах некоторых машин были установлены широкие плиты, все наклоненные под одним и тем же углом посредством блестящих поршневых механизмов. Сотни выпускных клапанов стреляли паром.
Большинство машин передвигались на огромных, величиной с дом, колесах, по пять или шесть пар на каждую. Другие неторопливо прокручивали массивные гусеницы или переставляли членистые ноги. Две скользили на лыжах, как ледокат Крозета. Одна ползла на манер личинки древесницы, поочередно проталкивая вперед сегменты механического тела; Рашмика могла лишь догадываться о том, каким образом приводятся в движение части этой штуковины.
Несмотря на различия в конструкции, все машины ехали с одинаковой скоростью, имея возможность соблюдать ее настолько точно, что между ними были даже протянуты пешеходные мостки и крытые переходы. Эти конструкции скрипели и гнулись, так как дистанция между звеньями колонны менялась в пределах метра, но не рушились.
Крозет двинулся параллельно каравану, по «обочине» тропы, потом прибавил скорость, обгоняя машины. Хрустя льдом и камнями, огромные колеса вздымались над ледокатом. Рашмика с тревогой поглядывала на водителя, державшего джойстики управления. Что, если он на секунду отвлечется или рука дрогнет? Тогда эти колеса вмиг раздавят их.
Но Крозет выглядел совершенно спокойным, словно уже сотни раз проделывал этот трюк.
– Что ты ищешь? – спросила Рашмика.
– «Короля», административную машину, – тихо ответил Крозет. – Там ведется весь бизнес. Обычно «король» идет в голове колонны. Ох и большущий же караван! Давно такого не видел.
– Здорово, – проговорила Рашмика, любуясь исполинами, что двигались рядом с крохотным ледокатом.
– Это еще что! – ухмыльнулся Крозет. – Средней величины собор гораздо больше этого каравана. Соборы идут медленно, но никогда не останавливаются. То есть они могут остановиться, но это очень хлопотно. Не проще, чем ледник затормозить. Рядом с этакой громадиной даже меня мандраж пробивает. Пожалуй, я бы предпочел, чтобы они не двигались…
– Вот «король», – указала Линкси на проем в ближней колонне. – На той стороне, милый. Придется объехать.
– Твою мать!.. Вот этого я точно не люблю.
– Не рискуй, давай объедем сзади.
– Черта с два! – Крозет улыбнулся, показав дрянные зубы. – У меня что, яиц нету?