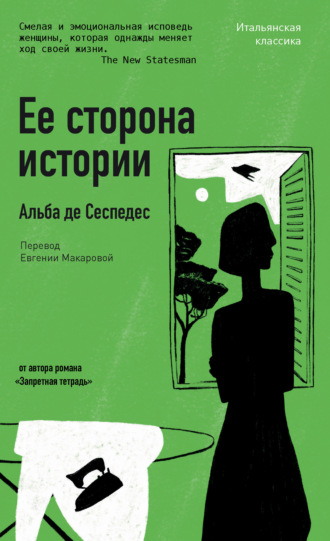
Ее сторона истории
Наш дом, унылый и печальный со стороны улицы, дышал жизнью со стороны большого, наполненного воздухом двора. Сюда выходили узкие лоджии с ржавыми перилами, и по ним можно было судить о состоянии и возрасте жильцов. На одних громоздилась старая мебель, на других – птичьи клетки или игрушки. Наша была украшена растениями.
Женщины чувствовали себя во дворе непринужденно и общались с той особой близостью, которая возникает между обитательницами пансиона или приюта. Это доверие возникало не столько оттого, что они жили под одной крышей, а потому, что знали нелегкую жизнь друг друга – все трудности, лишения, бытовые сложности, – и это рождало между ними непроизвольную ласковую снисходительность. Вдали от мужских взглядов, в отсутствие необходимости вести обременительную игру в образы, они становились такими, как есть. Первый стук открывающихся ставней, как звон колокола в женском монастыре, ознаменовывал начало дня. И все, смирившись, с рассветом принимали на себя бремя новых трудов, а то, что каждый их жест вторил жесту женщины в похожем выцветшем халате этажом ниже, дарило им утешение. Ни одна из них не решилась бы остановиться, опасаясь нарушить движение отлаженного механизма. Более того, во всем, что было частью их домашней жизни, они бессознательно видели простую поэтичную красоту. Веревка, протянутая с одной лоджии на другую, чтобы удобнее было сушить белье, походила на заботливо протянутую руку; корзинки перепрыгивали с этажа на этаж, чтобы передать необходимую утварь. Однако по утрам женщины мало разговаривали друг с другом. Иногда только, в редкую паузу, кто-нибудь выходил на лоджию, прислонялся к перилам посмотреть на небо и говорил: «Какое сегодня солнце!» Старушки сидели на лоджии и шили, а служанки чистили горох или картофель, кидая их в таз, стоявший рядом с ними на полу. Потом, ближе к вечеру, они возвращались внутрь, чтобы продолжить домашние дела, и наступал час, когда я оставалась во дворе одна, будто он принадлежал только мне.
Летом после ужина мужчины тоже часто сидели на лоджии, в рубашке с закатанными рукавами или прямо в пижаме, и в темноте трепетали красные светлячки их сигарет. Женщины выходили ненадолго, разве что обменяться словами «добрый вечер», и их голоса звучали иначе. Иногда они обсуждали болезни детей. Утомленные, все довольно рано возвращались внутрь, закрывали ставни, и между лоджиями повисала большая черная пустота.
Моя мать редко появлялась во дворе: только чтобы полить цветы. Ее замкнутость хоть и раздражала соседок, но в то же время вызывала их восхищение. Поэтому наша семья, несмотря на крайнюю бедность, пользовалась особым уважением – все благодаря изысканной красоте матери, ее благородным манерам и неизменно легкому, безмятежному настроению.
В доме жило достаточно красивых, общительных женщин; некоторые даже были образованны и до замужества работали школьными учительницами или служили в конторе. Но моя мать лишь обменивалась с ними приветствием или мимолетным замечанием о погоде и ценах на рынке. Единственным исключением была синьора, наша соседка сверху по имени Лидия.
Мама часто брала меня с собой, если шла к ней в гости, чтобы я могла поиграть с ее дочкой Фульвией: нас оставляли одних в детской, полной игрушек, или на маленькой террасе, также служившей кладовкой. Мама и Лидия лежали вдвоем на кровати и разговаривали так оживленно, что если мы прерывали их и просили шаль или лист бумаги с ручкой, то они тут же все нам давали, лишь бы вновь остаться одним. Поначалу я не могла понять, что связывало мою мать с женщиной, столь непохожей на нее. Но вскоре я осознала, что и сама попала под очарование ее дочери, которая с тех пор стала моей единственной подругой. Она казалась старше меня, хотя была на несколько месяцев младше. Миловидная, темноволосая, с выразительными чертами лица, в свои двенадцать-тринадцать лет она была уже настолько хороша собой, что, когда мы в сопровождении Систы шли по улице, мужчины смотрели ей вслед. Она походила на свою мать – привлекательную, пухленькую, цветущую женщину, питавшую пристрастие к платьям из лоснящегося шелка с декольте, подчеркивающим соблазнительную ложбинку пышной груди.
Мать и дочь почти всегда жили одни, потому что синьор Челанти служил коммивояжером. Когда он возвращался домой, его принимали как постороннего и даже не пытались скрыть, насколько его присутствие нарушает привычный уклад жизни: они ели второпях, вечером спешили лечь спать, отделывались односложными ответами по телефону, одна жаловалась на бесконечные мигрени, другая постоянно играла в самые скучные и нарочито детские игры. Их квартира, обычно полная гостей, мгновенно пустела, стоило Лидии объявить: «Доменико вернулся». Возможно, неумышленно, но они превращали свой дом в настолько негостеприимное, неопрятное и мрачное место, что синьор Челанти вскоре собирал свой чемоданчик и опять уезжал, не преминув похвалить гостиницы и кухню северных городов.
Сразу после его отъезда Лидия и Фульвия возвращались к своему привычному образу жизни: мать возобновляла нескончаемые телефонные разговоры, а после обеда уходила из дома, оставляя за собой в подъезде шлейф резкого аромата гвоздики.
Она ходила к капитану. Именно этого капитана они шепотом обсуждали с моей матерью. Мы с Фульвией отлично это знали. Она называла его только по званию: «капитан говорит», «капитан любит», как будто специально не произнося его имя или фамилию. Но тогда мне это не казалось странным: у других синьор в нашем доме были «инженеры» и «адвокаты», и кроме этого о них тоже ничего больше не было известно.
Лидия рассказывала о любовных встречах, долгих прогулках, письмах, которые она получала через служанку. Моя мать слушала ее с замиранием сердца. Когда я стала постарше, то заметила, что визиты к подруге обычно следовали за вечерами, когда она запиралась в комнате с моим отцом и в доме воцарялась тишина.
Они познакомились благодаря урокам фортепиано, которые мать должна была давать Фульвии. Лидия постучалась к нам в дверь и – как это принято в тех домах, где всегда боятся, придя без предупреждения, обнаружить комнаты в беспорядке, а хозяев небрежно одетыми, – настояла на том, что не станет проходить, и сказала все, что хотела, стоя на пороге. Ее визит несколько удивил нас: к нам никто никогда не обращался с просьбами, не заходил одолжить соли или пару листиков базилика. Моя мать с радостью приняла бы ее в гостиной – мрачной комнате, в которой никогда не было свежего воздуха. Позже Лидия призналась, что пришла только затем, чтобы посмотреть на мою мать вблизи. О ней, такой красивой и всегда сдержанной, в доме ходили слухи и легенды. Визит произвел фурор: Лидия излучала свежесть, пахла тальком, сочилась жизнью, как растение, которое только что обильно полили. Моя мать была женщиной флегматичной, с маленькой грудью, и ее привел в восхищение ее полный, пышный бюст, который, казалось, жил своей собственной животной жизнью, отдельной от своей обладательницы. После нескольких уроков, которые Фульвия посещала без особого желания, удовлетворившись тем, что научилась бренчать популярные песенки, они подружились. Моя мать являлась к ним в назначенное время, как и к другим ученицам. Но едва она входила, Лидия звала ее из своей комнаты: «Зайди сюда, Элеонора», – и сразу же начинала оживленно что-то говорить, рассказывать истории, предлагать сигареты. Так они проводили часы.
Я ревновала с той страстью, которая подтверждала искренность всех моих чувств. Подстрекаемая Систой, однажды вечером я рискнула пойти и позвать маму домой. Впервые я поднялась по лестнице выше нашего этажа: мне казалось, что я попала в новый мир. Я колебалась. Систа снизу подбадривала меня: «Смелее». Я постучала. «Скажите моей матери, что уже поздно», – строго произнесла я, нахмурившись. Лидия улыбнулась. «Заходи, – сказала она, а затем, видя мою нерешительность, добавила: – Заходи, скажи ей сама».
Я редко бывала в чужих домах, поэтому мне было очень интересно посмотреть, как живут другие люди, как выглядят их комнаты, кровати, что стоит на полках. Лидия закрыла дверь, и я застыла в восхищении перед гравюрами с изображением мифологических сюжетов, нимфами, танцующими на лугу. «Я хочу познакомить тебя с Фульвией, вы подружитесь». Стояло лето. Фульвия была в своей комнате, полуобнаженная, в длинном материнском платье из тюля. Волосы убраны наверх, губы накрашены.
– Я Глория Свенсон[5], – сказала она мне и, видя, что я не понимаю, вовлекла меня в игру. – Иди сюда, – сказала она, распуская мои косы. – Я одену тебя как Лиллиан Гиш[6].
Скоро Фульвия привязалась ко мне так же, как Лидия к моей матери. Во многом это объяснялось нашей наивностью, которая забавляла их, и, возможно, их неосознанным желанием разрушить наш жизненный уклад. Воодушевленные удивлением, которое вызывали в нас их рассказы, они начали открывать нам тайную жизнь большого дома, в котором мы жили долгие годы. Женщины, которых мы ежедневно встречали и столько раз, проходя мимо по лестнице, задевали локтями, в рассказах Лидии и Фульвии представали перед нами во флере романтических историй и становились похожи на героинь, которых бабушка играла на сцене. Наконец-то мы поняли причину тишины, которая во второй половине дня спускалась во двор. Освободившись от тяжелых обязанностей и в знак протеста против скучной жизни, на которую они были обречены, после обеда женщины бежали – из темных комнат, серых кухонь, двора, который ждал, пока с неумолимым наступлением сумерек закончится еще один день их бесполезной молодости. В доме, охраняя тишину и порядок, оставались только занятые шитьем старухи: они не только не сдавали молодых, а даже помогали им, словно являлись частью одного тайного общества. Женщин объединяло молчаливое презрение к образу жизни мужчин, их тирании и эгоизму, а также подавленная обида, которая передавалась из поколения в поколение. Утром, проснувшись, мужчины находили уже готовый кофе и выглаженную одежду и выходили на свежий воздух, свободные от мыслей о доме и детях. За собой они оставляли неубранные кровати, грязные чашки, комнаты, пропитанные запахом сна. Возвращались всегда в определенное время, иногда маленькими группами, совсем как школьники: они пересекались в трамвае или на мосту Кавур и, болтая, шли домой вместе; летом обмахивались шляпами. Едва войдя, они спрашивали: «Готово?», снимали пиджаки, обнажая потертые подтяжки, говорили: «Макароны переварены, рис слишком мягкий», – и такими фразами сразу сеяли плохое настроение. Затем они садились в самое удобное кресло в самой прохладной комнате и читали газету. Из этого чтения они всегда извлекали самые мрачные предзнаменования: хлеб подорожает, зарплата уменьшится. За этим всегда следовал один и тот же вывод: «Надо экономить». В газетах им никогда не попадалось ничего хорошего. Вскоре они опять уходили, хлопая дверью, а за минуту до или через минуту после хлопали двери на других этажах. Возвращались, когда в доме было тихо, дети спали, день окончен, завершен, прожит. Они снова снимали пиджаки, включали радио, слушали передачи о политике. Им нечего было сказать женщинам. Они никогда не спрашивали: «Как ты себя чувствуешь? Не устала?», они никогда не замечали красивого платья. Они ничего не рассказывали, не любили разговоры, не ценили шутки, мало улыбались. Обращаясь к своим женам, они говорили: «Вы пошли… вы сделали…», объединяя их в одно целое с детьми, свекровью, служанкой – людьми, по их мнению, ленивыми, расточительными, невежественными.
При этом сватались они, согласно буржуазным традициям юга, очень долго. Молодые люди часами ждали под окнами, чтобы увидеть возлюбленную. Следовали за ней по пятам, когда она выходила на прогулку с матерью. Писали страстные письма. Нередко девушки терпеливо ждали замужества годами, потому что парню трудно было найти стабильную работу и накопить достаточно денег для покупки мебели. Девушки готовили приданое и были полны надежд на счастливую любовь; а вместо этого их ждала изнурительная жизнь: кухня, дом, постоянные изменения в теле из-за беременностей и родов. И постепенно под маской смирения в женщинах росла глухая обида на обман, в который они попали.
Однако они продолжали жить этой тягостной повседневностью: не жалуясь, не напоминая мужьям о том, какие обещания гармонии и счастья те давали им, пока они были девочками. Поначалу они пытались – и не раз плакали ночами, пока мужья спали рядом. Они прибегали к кокетству, хитрости, симулировали обмороки. Более образованные пытались увлечь своих спутников музыкой, книгами, водили их в парк, где они гуляли в пору любви, надеясь, что те поймут и исправятся. Но все, чего они добились, – это уничтожили память об этих дорогих им местах, потому что там, где были произнесены первые волнующие слова любви и случились первые, все еще наполненные неудовлетворенной тоской и любопытством поцелуи, супруги не нашли сказать друг другу ничего, кроме равнодушных и банальных слов. В первые годы брака у многих случались истерики. Одна синьора, по рассказам Лидии, пыталась отравиться вероналом. Некоторые в конце концов смирились с тем, что безвозвратно постарели, потеряли весь свой шарм и привлекательность. Но это были или недавно вышедшие замуж, или связанные католической верой. Остальные с нетерпением ждали, когда после обеда мужья наконец скажут «я пошел» и хлопнут дверью. Те, чьи дочери уже подросли, ждали, когда они тоже уйдут гулять с друзьями. Потом, приготовив полдник и завернув им его с собой в пакетик, они отправляли младших детей на игровую площадку в сопровождении служанки. Все разбредались по своим делам, за своими собственными удовольствиями, и никто не спрашивал женщин: «А вы что будете делать?» Их оставляли посреди горы белья, которое нужно было заштопать, корзин с одеждой, которую нужно было погладить, привязанными к нескончаемому гнетущему колесу домашних обязанностей.
Зимой, по словам Фульвии, жизнь становилась более сносной. Женщины заботливо ухаживали за простуженными детьми и, ежась от холода, сидели на кухне у печки, смотрели, как за окном моросит дождь. Зимой они даже находили горькое удовлетворение в этой уютной домашней жизни. По вечерам, измученные, они падали в кровать и моментально засыпали, погружаясь в тусклое забытье.
Но когда приближалась весна и на деревьях, обрамляющих унылые кварталы Прати, распускались красные почки, яркий аромат мимозы и жимолости, теснившихся за оградами, проникал даже в наш старый двор. И тогда женщины открывали окна, чтобы послушать зов ласточек, которые летали туда-сюда, настойчиво приглашая их на улицу. Они больше не могли сопротивляться: освобождаясь от сомнений и угрызений совести, как от ненавистных пут, они шли по коридору мимо изображения Святого Сердца, шептали: «Господи, прости меня» и запирались в своих комнатах. Вскоре они выходили оттуда преображенными. Почти все предпочитали черные платья с цветочным узором и широкие шляпы, скрывавшие лицо. Они были напудрены, надушены, на губах – помада, на руках – прозрачные перчатки; так одетые, они представали перед старушками, сидевшими у окна. Старушкам даже не приходилось смотреть на них: они и без того знали этот запах духов, этот решительный голос, говоривший: «Я пошла». И даже если так говорила жена сына, они не смели сказать в ответ ни слова: солидарность, которая связывала их, была сильнее родственных уз.
Любовники, рассказывала мне Фульвия, – а мне иногда удавалось мельком увидеть их из окна, – ждали на углу улицы. Эта предосторожность была излишней, поскольку все в квартале о них знали. Часто это были мужчины помоложе и чуть более высокого положения. Я всегда думала, что любовник должен быть очень красивым, с романтичной внешностью, хорошо одетым, и удивлялась, видя, что эти, как правило, не обладали ни одной из этих черт. Мне все стало ясно, когда Фульвия рассказала, что адвокат зрелой дамы с третьего этажа называет свою любовницу «малышка». Встревоженные этими рассказами, а также присутствием таинственных мужчин, упорно осаждающих наш дом, мы с матерью, растерянные и задумчивые, молча спускались по лестнице и возвращались в нашу мрачную квартиру с темной мебелью, книгами, пианино. Я сразу отправлялась спать, а мать выключала свет и присаживалась на мою кровать. В эти минуты, если муж звал ее, она отвечала ему сухо или раздраженно. Во мне тем временем пробуждался Алессандро и начинал задавать скабрезные вопросы, вызывая во мне бурю новых, непристойных чувств. Белыми призраками перед моими глазами проплывали письма, о которых рассказывала Фульвия, – любовные письма, передаваемые через служанку и старого швейцара. Мне хотелось украсть их, чтобы прочитать все, от начала до конца.
Мать сидела на моей кровати молча и наконец уходила, не поцеловав. Я смотрела на ее хрупкую фигуру, исчезающую за дверью. Вскоре заходила Систа и выдергивала меня из полусна: «Ты была у этих. Прочитай покаянную молитву, „Аве Мария“».
* * *Вскоре произошли два примечательных события: знакомство моей матери с семьей Пирс и первые сеансы с медиумом Октавией.
Пирсы были английского происхождения и в тот год переехали из Флоренции в Рим. Мать-американка была очень богата и – в отличие от многих своих соотечественников – тратила деньги не на балы и светские приемы, а на покупку произведений искусства и помощь молодым музыкантам. Они жили в районе Джаниколо на Яникульском холме[7] на вилле, окруженной густыми деревьями и высокими пальмами. Оттуда открывался восхитительный вид на город: купола, обрамленные окнами, словно фамильные портреты, Тибр, вытекающий из-под одного моста и утекающий под другой и похожий на ленту, вплетенную в кружево. В те дни моя мать часто выбирала Джаниколо для наших воскресных прогулок, чтобы мы с папой могли – издалека – полюбоваться парком виллы. Иногда мы даже доходили до задних ворот, там она помогала мне взобраться на небольшую стену и указывала на три больших окна во втором этаже. Это были окна музыкальной комнаты: там стоял большой рояль, который синьора Пирс привезла из Америки, арфа, на которой она играла, и ультрасовременный граммофон, который сам менял пластинки.
Это была очень красивая вилла, старинной архитектуры. Густая растительность делала сад непроходимым. Среди деревьев иногда мелькали большие элегантные собаки, и мать уверяла, что по лужайкам ходят белые павлины, которых мне, однако, так и не удалось увидеть. Эта усадьба очаровывала нас обеих. Мой отец не разделял нашего восторга, возможно, из-за той инстинктивной неприязни, которую люди скромного достатка испытывают к тем, кто живет в роскоши. Он все время торопил нас и не мог дождаться, когда мы наконец отправимся в ближайшую тратторию выпить газировки.
Каждое воскресенье, в конце дня, он водил нас в кафе. Я всегда обожала мороженое, но после любования парком Пирс становилась рассеянной, задумчиво крутила в руке ложечку и не замечала, как мороженое тает, превращаясь в желтоватую воду. Мать вела себя точно так же, и эта наша склонность к мечтательности безмерно раздражала отца. Он ошибочно видел в этом презрение к нашему положению и его неспособности зарабатывать деньги.
На самом же деле ни мать, ни я не придавали значения нашему уровню жизни. Она годами носила одни и те же платья, и, несмотря на то что иногда она обновляла их пряжкой или лентой – а может, именно поэтому, – они казались настолько вышедшими из моды, что выглядели вызывающе эксцентрично. У нее не было мехового манто, а только черное поношенное пальто, в котором она встречала все зимние холода. Ее прекрасные волосы – она сохранила их длинными и убирала в пучок на затылке – теряли свой блеск под невзрачными шляпками, которые не надела бы даже старуха. Питались мы очень скромно, а развлечения ограничивались этими воскресными прогулками. Мы так подолгу любовались виллой только потому, что нас привлекали высокие деревья, стоящие вокруг нее группами или парами, словно живые, и мы понимали, как семье Пирс повезло наслаждаться их видом.
И это была не единственная их привилегия; мать считала их очень удачливыми еще и потому, что они могли, благодаря своим деньгам, жить духовной жизнью в согласии со своими природными склонностями, а не подчинять ее повседневным нуждам.
С этими мыслями мы садились за маленький железный столик на тротуаре, заставленном другими такими же столиками, где сидели такие же люди, как мы, – матери, отцы, дети. Вокруг стояли большие серые дома, из-за толстых окон которых жильцы с раздражением смотрели на наше мороженое, пока наши тарелки не пустели. Трамвай проходил вплотную к тротуару, и каждый раз резкий скрежет железа перекрывал наш разговор. И я не могла не возвращаться мысленно к большим воротам, за которыми росли деревья, увитые плющом и мхом, к влажным зеленым лужайкам с белыми павлинами, которых я так и не увидела, и к тем трем высоким окнам с закрытыми фронтонами, за которыми в полумраке одиноко стояли рояль и арфа.
Этот рояль очень нравился моей матери не только потому, что сам инструмент был прекрасен, но и из-за того, что она не просто обучала играть гаммы, этюды и нудные сонатины, а могла музицировать на нем, как у себя дома. Причины, по которым ее пригласили в особняк Пирсов, на самом деле были весьма оригинальны. В первый день хозяйка приняла ее без спешки, в отличие от других синьор, которые сразу же представляли ее новой ученице и через несколько минут оставляли их наедине; она предложила ей чай, рассказала о своей коллекции произведений искусства, о своих путешествиях и, наконец, о своей семье. Семья состояла из отца-промышленника, который в свободное время коллекционировал бразильских бабочек, замужней дочери, проживающей в Лондоне, и двух младших детей, Харви и Арлетты, которые жили с ней. «Сын нездоров, – добавила она уклончиво, – и часто уезжает».
Именно с Арлеттой должна была заниматься моя мать, но не учить ее игре на фортепиано, а формировать интерес к музыке – так же, как другие учителя пытались заинтересовать ее живописью и поэзией. «Потому что у этой девушки, – призналась синьора Пирс, понизив голос, – вообще нет никакой чувствительности к искусству». Это было болезненно, объяснила она, для других членов семьи, которые жили почти исключительно высокими ценностями. По этой же причине и Харви часто уезжал из Рима. Сейчас он тоже в отъезде и вернется примерно через год. Арлетта стала настолько невыносимой, что это уже нельзя было игнорировать в повседневной жизни. Она предпочитала популярные песенки камерной музыке, а дешевые романы – литературной классике. Поэтому ее вкус нужно было постепенно воспитывать; девушка была очень молода, старательна и поэтому, возможно, излечима.
Вскоре вошла Арлетта и, кажется, догадалась, что говорили о ней. Моя мать потом признавалась, что была несколько смущена, когда пожимала ей руку, и что представляла ее другой: живой, смелой, ироничной, готовой поспорить. Но Арлетта оказалась моей ровесницей, довольно полненькой, домашней. Она сразу предложила посмотреть музыкальный салон, и по тому, как девушка повернула высокую золоченую ручку двери, моя мать поняла, какое благоговение внушала ей эта комната.
Просторный зал был погружен в полумрак: за окнами переплетались легкие ветви деревьев, поднимавшихся до самых подоконников, и послеполуденное солнце, проникая сквозь молодую листву, наполняло пространство зеленым светом морской глубины и туманной дымкой, какая бывает в аквариуме. В углу, подобно острову, возвышалась темная фигура рояля, и, тронутое солнечной пылью, неброско блестело золото арфы. В большом зале почти не было мебели, только несколько стульев в стиле ампир со спинкой, украшенной лирой, и два дивана с глубокими вмятинами.
У окна четыре пюпитра отбрасывали на белую стену большие прозрачные тени, похожие на скелеты. Моя мать и Арлетта шли на цыпочках, боясь нарушить эту тишину и порядок. Посреди комнаты девушка резко остановилась: в свете, падающем из окна, ее белые руки, белое платье делали ее похожей на большую медузу.
– Синьора, – сказала она, – я боюсь. Моему брату не нравится, когда я захожу в эту комнату. – Она выглядела искренне испуганной. – Он считает, что я чужда музыке, – добавила она, – и даже не люблю ее. Это не моя вина: я действительно ее не понимаю. Он прав. Он ездит в путешествия, только чтобы послушать какого-нибудь пианиста, а когда возвращается в Рим, то, можно сказать, живет здесь, в этой комнате, наедине со своими пластинками и скрипкой. Он не хочет, чтобы я сюда входила, потому что боится, что здесь останется мой след и что это будет мешать ему, даже когда меня нет. Это мучительно, синьора, как будто у меня скрытая заразная болезнь. Вы должны меня вылечить. Возможно, нам стоит начать с простых вещей, подходящих для детей. Я должна выздороветь, – решительно заявила она.
А потом добавила шепотом:
– Потому что я люблю своего Харви больше всего на свете.
Моя мать взяла ее руки в свои, поблагодарив за искренность. Потом открыла окно, чтобы таинственный воздух, наполнявший комнату, рассеялся, и внутрь сразу же ворвалась еловая ветка, как животное, давно поджидавшее в засаде. Большая зала тем не менее осталась непроницаема, загадочна, а музыкальные инструменты по-прежнему были похожи на героев, наделенных чувствами и мыслями.