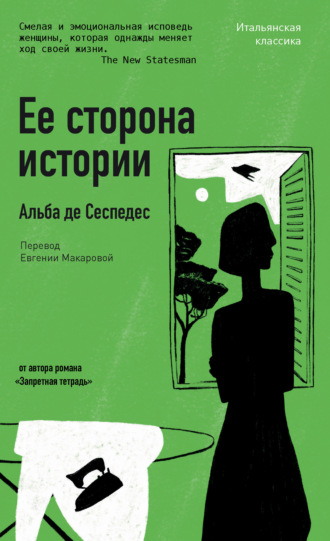
Ее сторона истории
– Это Харви, – повторяла Арлетта, испуганно озираясь по сторонам. И моя мать тоже почувствовала себя неуютно. – Даже мама не осмеливается заходить сюда и играть, когда его нет, – сказала Арлетта, указывая на белое атласное кресло у арфы. – Когда мама играет, Харви ложится на диван и слушает, закрыв глаза.
– А ты?
– Я остаюсь в своей комнате или гуляю в саду. Подальше, чтобы он не мог видеть меня в окно.
Моя мать попробовала было осудить это странное поведение, но Арлетта с жаром принялась защищать брата.
– О нет, синьора. Харви – художник. Он играет на скрипке или садится за рояль и импровизирует. Мама говорит, что его игра – это нечто чудесное. Нет, вина целиком моя, – сказала она и добавила с грустью: – Леди Рэндалл, то есть моя сестра Ширли, которая живет в Лондоне, прекрасно играет на фортепиано.
* * *Чтобы выкроить время на эти новые уроки, матери пришлось отказаться от других, так как на вилле Пирс она проводила почти весь день два раза в неделю. Отец отговаривал ее, хотя и не знал о специфическом характере этих занятий: он боялся, что, если она потеряет постоянных учеников, которые занимались уже несколько лет, ей будет трудно найти новых, если из-за внезапного отъезда семьи Пирс этот источник дохода исчезнет.
Но она проявила решимость, даже упрямство. В те дни, когда нужно было ехать к Арлетте, она с самого утра была взволнована, словно в ожидании праздника. Учитывая мой характер и чувства, которые я питала к матери, я бы начала ревновать ее к новой ученице, если бы по возвращении она не становилась более общительной, чем обычно. Действительно, проведя несколько часов на вилле Пирс, мать возвращалась воодушевленной, и ее легкая походка сразу оживляла мрачные и сонные комнаты.
Часто она приносила нам сладости, пакетик конфет, которые ей дарили там, и это раздражало отца, да и я ела их без особого удовольствия. Возможно, он боялся, что, познакомившись с образом жизни, столь отличным от нашего, мама начнет сожалеть о том, как живет оставшуюся часть недели. Большинство учениц моей матери происходили из мелкой буржуазии: эти девушки учились, чтобы самим стать учительницами и таким образом зарабатывать на жизнь. Поэтому ее работа не приносила ей никакого личного удовлетворения, и никогда в домах, куда она ходила, ей не доводилось встречать сколько-нибудь интересных или выдающихся людей; и только для того, чтобы помочь отцу содержать нас, она должна была выходить из дома в любую погоду, толкаться в трамвае, подниматься и спускаться по таким же лестницам, как наша, входить в маленькие убогие квартиры, наполненные запахами еды, которую хозяева ели на завтрак, обед и ужин. Я радовалась, что время, проведенное на вилле Пирс, было для нее счастливой передышкой, и охотно помогала Систе, чтобы избавить мать от домашних дел. Я научилась штопать; это занятие мне нравилось, потому что можно было молча сидеть у любимого окна и предаваться своим мыслям.
Мысли эти были немало взбудоражены знакомством – через медиума Оттавию – с таинственными и ужасающими персонажами, населяющими небо, то самое, где на закате летали ласточки.
Эта женщина уже довольно давно посещала дом Челанти; Фульвия часто рассказывала о ней, когда нас оставляли одних в комнате или на террасе. Однажды я мельком увидела ее на лестнице: энергичную женщину средних лет с коротко стриженными седыми волосами. Она всегда носила с собой большую сумку, где лежали изображения святых, медальоны на красных лентах, коралловые рожки и мешочки с травами от сглаза. Сопровождал ее мальчик лет пятнадцати, которого она представляла как своего племянника, всегда бритый наголо, даже в самые суровые зимние месяцы. Левая нога у нее была больная, поэтому она хромала, но это ее нисколько не смущало, и ходила она не прилагая усилий: каждый ее шаг звучал вызывающе уверенно, как утверждение правоты. Эней – так звали мальчика – шел позади, держась на некотором расстоянии, и, насколько я помню, всегда был одет в черное: на нем были черные носки, черные перчатки, и это придавало ему вид молодого священника. У него было блестящее лицо оливкового оттенка, а глаза – темные, мягкие, с густыми ресницами – напоминали глаза моего отца.
По словам Челанти, медиум Октавия уже несколько лет ходила по темной лестнице нашего дома. У нее был особый способ объявлять о себе – тремя четкими и точными постукиваниями – чтобы убедиться, что мужчины нет дома; в противном случае она делала вид, что ошиблась этажом. Приходила она по пятницам, самым благоприятным дням для сеансов. С самого утра на лестничной клетке стоял сильный запах благовоний, двери приоткрывались, девушки, настороженно оглядываясь, перебегали от одной квартиры к другой, чтобы позаимствовать то белую скатерть, то маленький столик. Одним словом, пятничный день наполняло плохо скрываемое оживление.
С самого утра умершие начинали возвращаться в свои дома. «Это дядя Квинтино», – тихо говорила Фульвия, услышав шум в соседней комнате. В этот день женщины вставали пораньше и старательно выполняли работу по дому, возможно, для того, чтобы мертвые вспомнили, какой тяжелой и горькой была жизнь. Они поворачивались к тому месту за столом, которое покойные занимали долгие годы, и говорили: жестко, с иронией, обвиняя их в смерти как в предательстве, коварном побеге. Иногда они вздыхали, глядя на пустой стул, который когда-то принадлежал матери или бабушке, и потом медленно, с нежностью вытирали пыль со спинки, словно поправляя им шаль. В тот день с пустого стула на них смиренно смотрели неподвижные глаза. И даже я, хотя и была исключена из спиритических сеансов, чувствовала вокруг себя невидимое присутствие духов: достаточно было скрипа, чтобы я вздрогнула, покрылась потом, а сердце начало выпрыгивать из груди. «Алессандро», – шептала я в страхе. Я чувствовала, что он, в отличие от других духов, не хотел быть безмолвной тенью: он хотел участвовать в нашей жизни, используя меня.
Моя мать, напротив, казалось, не проявляла интереса к этим практикам и не верила в предсказания: ей совсем не любопытно было узнать будущее, потому что она не питала никакой надежды на то, что наша монотонная жизнь изменится. Отец так и останется служащим министерства до самой пенсии, она будет продолжать преподавать до глубокой старости. И мечты, которые она иногда нам доверяла – возможность стать знаменитой пианисткой или иметь загородный дом, – никогда не длились дольше, чем время, необходимое для их пересказа. Однако после того, как ее пригласили на виллу Пирс, она начала проявлять больше интереса к этим сеансам. Она смеялась, слушая рассказы Лидии о том, как предсказания духов всегда сбываются. И когда та упомянула о возможности связаться с Алессандро через Октавию, мать, хотя и отвергла это предложение, замешкалась и сказала: «Посмотрим».
Я уже говорила, что мой брат Алессандро утонул. Очень редко ребенок такого возраста может утонуть в Тибре, реке, окруженной высокими стенами. Это произошло из-за халатности няни, и поэтому моя мать не хотела нанимать няню для меня: она предпочитала оставлять меня на целый день дома, отправляя дышать воздухом на лоджию, лишь бы не доверять меня незнакомой женщине. Она даже в церковь с Систой отпускала меня неохотно. Алессандро был отдан на попечение – как это часто бывает у небогатых – девочке тринадцати лет, которая до этого жила в деревне. Хилые деревца и пыльный гравий городских садов не привлекали ее, привыкшую чувствовать под босыми ногами влажную прохладу травы. Большие дома, шумные улицы ее пугали: в своей комнатке без окон она проводила долгие часы в слезах, отчаянно тоскуя по лугам и реке. Поэтому, вопреки приказам хозяйки, она каждый день с ребенком на руках проходила пешком немалый путь, чтобы добраться до берега Тибра, чуть дальше моста Рисорджименто, в то время еще пустыря, который называли Пьяцца д’Арми. Спустившись к воде, она снимала обувь и носки себе и моему брату, растягивалась на зеленом берегу и, нежась в лучах солнца, слушала журчание воды и пение птиц, словно была в своей деревне. Мальчик играл рядом, лепил комки из глины, бегал между камышами по берегу. После того как произошла трагедия, она упорно продолжала описывать, как Алессандро был счастлив у реки, и признавалась, что старалась приучить его к воде. Она сказала, что все произошло в одно мгновение. Она лежала на траве, в тени камышей; ее глаза были прикрыты, руки за головой. Она услышала всплеск и короткий крик, сразу же стихнувший. Она вскочила на ноги, но успела лишь увидеть, как над водой, словно флажок, мелькнула маленькая ручка. Потом – ничего: поверхность реки снова стала гладкой и блестящей. Она не звала на помощь, а просто стояла, озадаченная и немного разочарованная, словно река унесла у нее платок.
Она вернулась в дом и сказала: «Ребенка унесла река». Тут же множество людей бросилось к месту происшествия: плавали на лодках, обыскивали камыши, прощупывали дно баграми, но тельце брата так и не нашли. Моя мать долгие годы избегала смотреть на реку и, переходя мосты, упрямо глядела прямо перед собой. Она даже лишний раз не говорила о ней. Но каждый год двенадцатого июля мы втроем выходили из дома – мать во всем черном, у меня черный бант на поясе или в волосах – и в полном молчании доходили до моста, затем медленно спускались к берегу. Печальное место все еще было отмечено шумящим пучком камышей. Мать подходила к самому краю берега и там стояла, погруженная в себя, глядя на воду, словно это было лицо ребенка. Потом она бросала в реку цветы, которые принесла с собой: всегда большие белые ромашки. Она бросала их медленно, одну за другой, и едва они касались поверхности воды, как их уносило течением. Вечером она звала нас в гостиную и играла Баха.
В ее свободном и необузданном воображении этому сыну, унесенному водой, были предначертаны необыкновенные свершения. Меня она всегда нежно любила, и все же я чувствовала, что ее любовь к Алессандро была иного рода. Во мне она видела те черты, которые сама унаследовала от матери: прежде всего – опасную чувствительность. Часто я замечала, как она смотрит на меня с огромной любовью, но в ее взгляде была такая искренняя скорбь, что мне хотелось плакать, хотя я и не понимала причины. От нее не могла ускользнуть моя склонность к одиночеству, к долгим размышлениям у окна, моя любовь к поэзии. Наша похожесть иногда вызывала у нее всплески нежности, а иногда так пугала, что она резко, словно я подвергалась невидимой опасности, вдруг отрывала меня от окна и моих одиноких игр и приказывала: «Давай, ступай к Фульвии, не сиди взаперти дома, иди поиграй с девочками своего возраста, подыши воздухом, ну же».
Моя мать свято верила, что Алессандро был бы не таким, как мы. Она считала, что он смог бы добиться в жизни всего, чего она не смогла: например, стал бы знаменитым пианистом. Она представляла себе путешествия, которые мы совершили бы, сопровождая его в поездках по великим европейским столицам, описывала Париж, Вену, мосты Сены и Дуная, Будапешт и остров Маргариты. Она никогда не бывала за границей, но знала эти города благодаря подробным рассказам своей матери. Мне казалось почти невозможным, что такие чудесные места действительно существуют, и иногда я подозревала, что она их выдумывает. Она рассказывала о людях, с которыми бы мы познакомились, – монархах, принцах, артистах, чьи имена мы видели на нотных обложках. Она описывала женщин, которых Алессандро мог бы встретить; говорила, что многие совершали бы долгие путешествия, пересекали бы океаны, чтобы познакомиться с ним. Я завороженно слушала и представляла их красивыми и несчастными, как Офелия или Дездемона. В те моменты даже тайная неприязнь, которую я всегда питала к Алессандро, рассеивалась. Потом мать замолкала и погружалась в себя, уставившись в одну точку: мне казалось, что она видит перед собой темный пролет моста и Тибр, стремительный и коварный, потому что, побледнев, она закрывала лицо руками.
* * *Октавия впервые пришла к нам домой в пятницу утром. Моя мать, Систа и я стояли у открытой двери, как на Пасху, когда ждешь священника для благословения. Челанти тоже ждали вместе с нами.
Войдя, Октавия сразу попросила жаровню с горящими углями. Взяв ее в руки, она бросила туда горсть ладана, который достала из большого свертка, лежащего в сумке, передала жаровню своему мальчику и попросила мать провести ее по всему дому. Мы по очереди заходили в комнаты, и, пока Эней с жаровней тщательно обходил каждый угол, оставляя за собой шлейф густого ароматного дыма, Октавия стояла неподвижно, опустив глаза, читая заупокойные молитвы. Потом своим тяжелым неровным шагом она шла в следующую комнату. Когда мы осмотрели каждый угол дома, она остановилась и спросила:
– Где?
– Лучше в гостиной, – ответила Лидия, поймав взгляд моей матери.
Там мы и заперлись. В эту комнату мы заходили редко – только когда мать звала нас к пианино. Там стояла самая торжественная мебель, и даже воздух с трудом проникал внутрь, спотыкаясь о тяжелые шторы устаревшего провинциального фасона. Октавия велела оставить окна закрытыми, а шторы опущенными. Строгие морщины на лбу Систы выражали упрек.
Быстрым уверенным движением Октавия поставила на столик лампу с зеленым абажуром, которую мать зажигала по вечерам, когда играла на пианино, бросила рядом амулеты, перевязанные красной лентой, достала бумагу и карандаш и, приготовившись писать, попросила нас сконцентрироваться.
Я сидела между Фульвией и Энеем; первая выглядела возбужденной и заинтересованной, а второй смотрел на меня с такой настойчивостью, что мне то и дело приходилось поднимать глаза, чтобы ответить на его взгляд: этот мальчик, который осмеливался жить в компании духов, внушал мне трепет. Моя мать села рядом с медиумом и положила раскрытые руки на столик: в круге света она снова казалась мне женщиной, не похожей на других, не похожей ни на одну женщину в мире; мне было неприятно видеть ее рядом с Лидией, которая умела сохранять непринужденность даже в такие моменты. Рука медиума начала дрожать над белым листом. Фульвия прошептала:
– Вот оно.
Мне стало страшно. Я побледнела, как и моя мать, а настойчивый взгляд Энея, который неотрывно следил за мной, усиливал мое беспокойство. Октавия писала и зачитывала вслух написанное по мере того, как буквы складывались в слоги:
– Бла-го-сло-вляю всех вас, со-брав-ших-ся здесь.
Лидия надела очки и внимательно посмотрела на лист бумаги, а затем, словно узнав почерк родственника, сказала:
– Это Никола.
Медиум кивнула.
Никола был духом-проводником. Позже Октавия объяснила нам, что он должен был искупить свою вину, оставаясь через нее привязанным к нашему миру до тех пор, пока не сможет подняться в высшие сферы. Октавия говорила о Николе как о живом человеке, старом и капризном родственнике, который много лет живет у нее в доме на полном содержании. Описывала его характер, вкусы, причуды. Рассказывала, что, когда Никола хочет пообщаться, а у нее под рукой нет бумаги и карандаша, он начинает сердиться, прятать от нее предметы или заставляет ронять те, что она держит в руках, и, пока она не сядет писать, ведет себя крайне нетерпеливо. Говорила, что пару раз даже видела его, но только по вечерам, при свете маленькой керосиновой лампы, которую всегда держала зажженной: он был высокого роста и ходил сгорбившись, как будто ему было грустно или тревожно. Лишь однажды она мельком увидела его лицо: в нем не было ничего примечательного, кроме того, что оно выражало глубокую печаль. Когда он явился, говорила Октавия, это был знак, что следует отслужить по нему заупокойную мессу.
В тот первый день связаться с Алессандро не удалось: когда Оттавия спросила про него у Николы, моя мать вцепилась руками в столик и замерла в оцепенении.
Никола написал: «Пойду посмотрю», – и оставил нас, словно отправился в соседнюю комнату, сгорбившись, как и описывала Оттавия. Я не могла понять, как они таким образом умудряются ходить по облакам, по небу. Никола вернулся и написал: «Он сейчас занят. Не может прийти. Встреча состоится в следующую пятницу».
Моя мать опустила голову, услышав это сообщение и назначенное время, я же начала дрожать, и Эней взял меня за руку, чтобы подбодрить. Его рука была сухой и горячей, как рука моего отца. От этого прикосновения я вздрогнула, но не посмела отстраниться. То ли потому, что нервы мои были уже на пределе, то ли из-за стоящего в воздухе запаха и окружавшей нас темноты, но я почувствовала неистовое желание быть к нему ближе, как будто сухое тепло его рук обладало тайной и невыразимой притягательностью.
Тем временем Никола быстро надиктовывал сообщение. Он говорил, что видит в будущем события, которые изменят ход жизни моей матери.
– Какие? – спросила она, склонившись к столику с удивленным и наивным выражением лица.
Наступила долгая пауза. Карандаш как будто нерешительно касался бумаги и сразу отрывался. Внезапно Никола принялся писать с такой скоростью, что Октавия едва успевала.
После того как дух закончил диктовать, Октавия на мгновение задумалась. Ее рука все еще заметно дрожала. Наконец она подняла глаза на мою мать и серьезно посмотрела на нее; потом ее взгляд скользнул в мою сторону, словно она спрашивала, стоит ли говорить открыто. Моя мать быстро кивнула.
Лидия, не в силах больше сдерживать любопытство, склонилась над листом и прочитала. Затем она опустила очки и тоже уставилась на мою мать.
Мать встревоженно спросила:
– Скажите наконец! Что там? Плохие новости?
Октавия покачала головой и, посмотрев на нее с благоговением, объявила:
– Он говорит, что тебя ждет великая любовь.
Мать не ответила, она была потрясена, на ее лице выступил легкий румянец, как у молодой невесты. Лидия сразу же попыталась привести ее в чувство, весело похлопывая по руке и приговаривая:
– Ах, дорогая, дорогая.
Она пыталась поймать ее взгляд и лукаво улыбалась. Медиум тоже глядела с улыбкой, довольная тем, что, несмотря на природную скромность, в моей матери открылась эта неожиданная и удивительная черта. Взволнованная, побежденная этими ободряющими улыбками, моя мать тоже открыто улыбнулась. Потом растерянно посмотрела на меня.
Я вскочила и, нарушая строгую атмосферу, стоящую в комнате, бросилась обнимать ее.
* * *Все это случилось за год до смерти моей матери; мне тогда было, получается, около шестнадцати лет. Я была уже очень высокой, выше всех своих сверстниц, но все еще заплетала две длинные косички, которые спадали мне на грудь. Мои формы не приобрели женского очарования; белые блузки, которые я носила, казалось, скрывали стройную худощавую фигуру мальчика, а лицо – с северными чертами, довольно правильное и строгое – даже в улыбке не смягчалось милыми ямочками и изящными морщинками. Я долго боялась, что эта мужская внешность была следствием дьявольского воплощения во мне Алессандро.
Бо́льшую часть дня я проводила в одиночестве. В школе я оказалась в изоляции: то, что я была лучшей в классе, быстро создало вокруг меня круг холодного недоверия. Но я даже не старалась выйти из него: школьная жизнь меня мало интересовала, а успехи в учебе являлись лишь следствием моей неспособности делать что-либо поверхностно и без усердия. К тому же лень моих одноклассников раздражала меня, как и вульгарность некоторых их поступков. Саркастичные комментарии, насмешки и унизительные шуточки над учителями, которые, на мой взгляд, были людьми справедливыми и доброжелательными, посвятившими свою жизнь попыткам обучить нас и сделать лучше, казались мне проявлением грубости и невоспитанности. Возможно, мое отношение объяснялось тем, что человек, которого я любила больше всего на свете, – моя мать – сама работала учительницей, и я не могла смириться с мыслью, что и с ней могли так же обращаться ее ученики. Кроме того, мне совсем не казалось остроумным хвастаться невежеством и плохими оценками, показывая тем самым полное отсутствие интереса к вещам, что возвышают дух и формируют вкус.
Мои одноклассники, естественно, смеялись надо мной. Я делала вид, что не обижаюсь, и это только усиливало их язвительность. Но однажды случилось событие, из-за которого меня чуть не исключили из школы, и мне кажется, тут стоит рассказать об этом. Среди одноклассниц, с которыми я иногда общалась, была одна по имени Наталия Донати, девушка, которую считали некрасивой – главным образом из-за ее очков с толстыми линзами. Она была скромных способностей, но добрая и чувствительная, склонная к сопереживанию. Ходили слухи, что она влюблена в старшеклассника по имени Андреани, ученика второго класса лицея. Каждый раз, когда они пересекалась, она менялась в лице, и однажды, когда мы с ней возвращались домой, она призналась, что, обменявшись с ним парой слов на перемене, почувствовала слабость во всем теле. Она постоянно следила за ним взглядом и довольно назойливо пыталась присоединиться к компании, с которой он дружил, хотя ее никто не приглашал.
Ее поведение не ускользнуло от внимания самых изощренных насмешников среди наших одноклассников, которые решились устроить розыгрыш самого дурного вкуса. Наталия призналась мне, что получила от Андреани письмо, полное нежности, а затем и признание в любви. В обоих случаях он умолял ее не раскрывать их любовной тайны и не подавать виду во время перемены, чтобы не стать объектом злых насмешек.
Она читала мне эти письма в маленьком парке, единственном зеленом островке посреди мрачных однообразных домов Прати. Наталия настояла, чтобы мы пошли туда, потому что, как она выразилась, ей «не нравится читать его письма на улице, среди прохожих». Это показалось мне очень утонченным. Она сидела на краю скамейки, и ее голос дрожал, когда она повторяла пылкие слова возлюбленного. Однако, видя ее волнение и понимая, какое значение она придает этим словам, а также сопоставляя написанное с абсолютным безразличием, которое Андреани проявлял к ней в школе, я начала подозревать, что письма – поддельные и что именно из-за них наши одноклассники так оживлялись и веселились каждый раз, когда Наталия выходила к доске.
Наконец я узнала, что письма сочинял Маджини, парень постарше, второгодник. Он писал их с одобрения некоторых других наших одноклассников – наглых и бессовестных, – которые еще и подсказывали ему. Я не решилась рассказать об этом Наталии. Теперь мы часто возвращались домой вместе, возможно, потому, что я была единственной, кто знал о ее тайной влюбленности, и, прощаясь, она целовала меня в обе щеки, обещая делиться всеми своими чувствами.
Пришло еще одно письмо, и снова Наталия читала его мне на скамейке в маленьком парке. Эти искусно составленные строки причиняли мне невыразимую боль: я чувствовала, что должна открыть ей правду, но не хотела становиться для нее источником страданий. Думаю, мое лицо выражало мучение, потому что она посмотрела на меня, а затем обняла, сказав, что мне не стоит унывать – скоро и у меня появится столь же преданный поклонник.
Мы шли домой под руку. Наталия говорила о своей любви так восторженно, что я почти верила, будто она настоящая. Но когда мы попрощались и я смотрела ей в спину, а она удалялась, сияя и посылая мне воздушный поцелуй, мне стало так жалко ее – в этом зеленом пальто, в очках с толстыми линзами, – что я решила как-то вмешаться и защитить.
На следующий день я подошла к Маджини после звонка на большую перемену. Я схватила его за руку, когда он шел по коридору, и быстро, шепотом начала говорить.
Я мало его знала, но, учитывая, что он был уже взрослым парнем, мне казалось, что лучше говорить с ним прямо. Я рассказала ему о восторге Наталии, о ее чувствительности, о том, какое значение она придавала этим письмам. Он обрадовался, узнав, что шутка удалась, и похлопал по карману, где, как он признался, лежало новое письмо для Наталии. В нем назначалось свидание у озера в парке Боргезе в следующее воскресенье. Там вместо Андреани Наталия встретила бы группу одноклассников, которые посмеялись бы над ней.
Я побледнела и начала умолять Маджини отказаться от этой затеи. Он, смеясь, покачал головой. Тогда я, преодолевая свою природную сдержанность, заговорила серьезно и попыталась объяснить ему, как важны для женщины любовные чувства и как преступно шутить ими. Он продолжал смеяться; более того, теперь он смеялся не только над Наталией, но и над самой любовью. Я прямо посмотрела ему в глаза, пытаясь в последний раз отговорить его, и в моем голосе слышались волнение и отчаяние. Он ответил, что письмо будет вручено завтра, и, если я хочу, могу вместе со всеми пойти к озеру в парке Боргезе.
Меня вихрем охватила дикая ярость. Маджини стоял передо мной и, ухмыляясь, собирался уйти. Тогда в порыве гнева я подняла руку, в которой держала тяжелый пенал с циркулями, и ударила его в висок.
Он, высоченный парень, рухнул на пол, вокруг столпились одноклассники, кровь стекала у него со лба и смешивалась с жесткими волосками его бровей.
Меня отвели в кабинет директора и оставили там одну. У меня перед глазами все еще стояли густые алые капли, падавшие со лба парня на его белую футболку. Я не выносила вида ни крови, ни грубо ругающихся между собой людей. Я не могла понять, как оказалась участницей подобной сцены. Наконец вошел директор – пожилой мужчина, который хорошо меня знал, так как я училась в этой школе уже несколько лет. До этого я бывала в его кабинете только для того, чтобы получить похвалу. Он мягко попросил меня объяснить причину такого серьезного поступка. Я молчала, глядя ему в глаза и задаваясь вопросом, сможет ли пожилой мужчина понять важность любовной истории или же посмеется над ней, как Маджини. Видя мое молчание, он начал задавать вопросы, строя догадки. Я продолжала молчать. Наконец, взяв меня за руки, он предположил, что, возможно, Маджини позволил непристойность в мой адрес и я защищала себя. Тогда, попросив сохранить тайну, я все рассказала. Я сказала, что мне было страшно видеть кровь, но в тот момент я желала, чтобы Маджини упал замертво. Он посмотрел на меня с беспокойством, но все же сказал: «Я понимаю». Затем он поговорил с Маджини и другими одноклассниками. Благодаря моему обычно примерному поведению меня не исключили из школы. Объявили, что мы поссорились из-за книги. Однако я потеряла дружбу Наталии, которая сочла меня жестокой и мстительной.