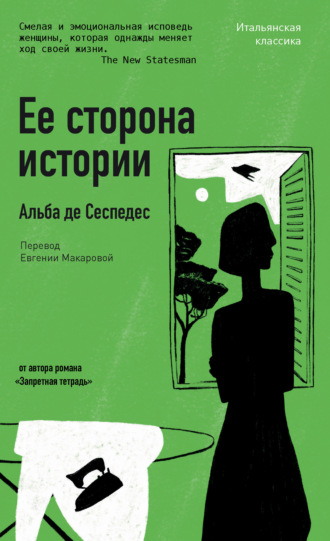
Ее сторона истории
В тот же день я призналась во всем маме.
Я подвела ее к окну, выходящему в монастырский сад: мне было легче говорить там, где мы вместе провели столько часов в теплых откровениях. Она села, а я осталась стоять и подробно, в мельчайших деталях, начала рассказывать. Не столько чтобы оправдаться, сколько чтобы помочь ей понять – а может, и разобраться самой, – как все это могло произойти.
Я робела под ее взглядом: мне казалось, из-за моей худобы и косичек она все еще считает меня ребенком. Она внимательно слушала, подперев щеку рукой. И когда я рассказала, как ударила его в висок, как он упал на пол, как кровь стекала на белую майку, она вздрогнула, но не перебила меня, не начала ругать, а продолжила слушать до самого конца.
Потом она медленно поднялась, взяла меня за плечи и, глядя мне в глаза, спросила, словно говорила со взрослой женщиной:
– Для тебя любовь тоже очень важна, правда, Санди?
Я посмотрела на нее, судорожно кивнула и разразилась потоком слез, совершенно не связанных с тем поступком, который я совершила. Я почувствовала, как во мне разверзлась бездна, полная тоски, которой моя мать своим неожиданным вопросом дала имя, и, испуганная, я вцепилась в нее, как в детстве.
Обнявшись, мы смотрели в окно; прижавшись щека к щеке, мы были так близки. За окном, я помню это очень хорошо, висели низкие облака, и дул сильный ветер, готовясь уступить место дождю и буре. В ожидании шторма монахини тщательно закрыли все окна, и стена монастыря казалась неприступной. Самые слабые листочки уже оторвались от веток и кружились в яростных порывах ветра.
Успокоившись в теплых объятиях, я чувствовала, как меня наполняет горький покой. Но вдруг я вздрогнула, прошептав:
– А папа?
– Мы ничего не скажем папе, – ответила она. И, помолчав, тихо добавила: – Не все можно рассказывать папе. Мужчины не понимают таких вещей, Санди. Они не чувствуют вес слова или жеста; им нужны конкретные факты. А женщины всегда проигрывают перед лицом фактов.
Потом она продолжила:
– Это не их вина. Мы с разных планет, и каждая неизбежно вращается вокруг своей оси. Бывают лишь короткие моменты, когда мы встречаемся – мгновения даже. А потом каждый снова возвращается в свое одиночество.
Ветер свистел сквозь щели, я дрожала.
– Ты почти с меня ростом, – сказала моя мать. – Ты уже женщина, твое детство закончилось.
Я помню, как в тот момент почувствовала, что она не останется со мной надолго: ее слова звучали как будто из какого-то другого мира, словно она говорила со мной сквозь толщу воздуха или воды. Я крепко обняла ее, словно пытаясь удержать, и не решалась посмотреть на ее лицо, боясь увидеть в нем знак прощания.
– Поэтому я так хотела, чтобы ты была мальчиком, – продолжила она. – У мужчин нет такого количества мельчайших причин быть несчастными. Они умеют приспосабливаться, эти мужчины, им повезло. И я хотела оставить после себя счастливого человека. Моя мать всеми силами пыталась отвлечь меня от музыки, романов, поэзии, она хотела, чтобы я была сильнее ее. Я была еще маленькой, когда она начала рассказывать мне мрачные и кровавые истории о любви, надеясь, что во мне проснется инстинктивное желание защититься от нее. Это были мрачные, ужасающие, пугающие истории, и она рассказывала их низким, трагическим актерским голосом. Я не могла ее слушать, плакала, пыталась уйти, но она держала меня за запястья. Она была необычной женщиной: в ее действиях чувствовалось какое-то упорство, жесткое немецкое упорство. Я просыпалась ночью, чтобы почитать стихи или «Вертера» на немецком, который был очень сложным. Я занималась на фортепиано с такой страстью, что однажды у меня случился серьезный нервный срыв. Тогда она перестала так со мной обращаться. Лишь однажды, привычным, почти кокетливым жестом разделяя мои волосы на пробор, она сказала: «Жаль, я хотела, чтобы ты была счастлива».
– Бабушка была счастлива?
Мама задумалась на мгновение, затем сказала:
– Не думаю. Может быть, до замужества, когда она каждый вечер проживала на сцене великую историю любви. Но после… Нет, после точно не была. Она вышла замуж по любви, но, если присмотреться, ее брак был похож на все остальные. От той неудержимой страсти, которая заставила ее покинуть театр, не осталось и следа, совсем: казалось, они просто устали жить вместе. Они оба были не очень терпеливы, а моя мать – еще и вспыльчива. Она умерла довольно молодой, так что у меня не так много воспоминаний о ней. Но некоторые вещи я помню очень хорошо. Летом, например, она брала меня с собой в Тироль. Мы гуляли вдоль пшеничных полей, среди высоких гор, эхо которых усиливало каждое сказанное нами слово. Она шла быстро, одной рукой придерживая длинную юбку, другой таща меня за собой. Параллельно она громко декламировала отрывки из каких-то драм. Она говорила по-немецки, я не все понимала. Ее голос был так непохож на обычный, что мне казалось, будто в ней тайно живет существо, которое проявляется только в эти моменты – кто-то, кто вместо нее продолжал жить на сцене, среди запаха пудры, пыли и грима, в убранной цветами гримерке, где в шкафу вместе с платьем и париком она каждый вечер находила удивительную историю любви.
После паузы мать добавила:
– Нет, она была действительно несчастна. Помню, с каким отчаянием она прижимала меня к себе, как целовала.
И в этот момент она крепко обняла меня. Она, конечно, не знала этого, но ее объятие тоже было пронизано отчаянием. Я вздрогнула от внезапной жалости к своей женской судьбе. Мне казалось, что мы нежные создания, обреченные на несчастье. Думая про мою мать, ее мать, женщин из трагедий и романов, тех, что выглядывали во двор, словно из-за тюремных решеток, и тех, которых я встречала на улице, с печальными глазами и огромными животами, я чувствовала, как на мне лежит вековое проклятие несчастья и неутолимого одиночества.
– Мама, – спросила я в отчаянии, – можно ли хоть иногда быть счастливой в любви?
– О да, – ответила она. – Думаю, да, нужно просто подождать. Иногда, – добавила она тише, – ждать приходится всю жизнь.
* * *Этот разговор немного изменил отношения между мной и моей матерью: с того дня, не говоря об этом прямо, она перестала баловать меня как ребенка и стала обращаться со мной как с сестрой – с бо́льшим доверием. Она меньше беспокоилась о том, как я провожу свои дни, зная, что я часто остаюсь одна, и, вероятно, понимала, что так я смогу лучше узнать себя, задавая себе вопросы, свойственные моему возрасту.
После полудня она часами оставалась на вилле Пирс без угрызений совести. Возвращаясь домой, она говорила: «У меня болит рука, я играла без перерыва несколько часов». Она ложилась на кровать и звала меня к себе, в легкий полумрак. Ее руки на темном покрывале супружеского ложа казались бледными; под кожей щек, в нежном румянце, струилось счастливое возбуждение, которое молодило ее. Редко мне доводилось видеть ее такой одухотворенной: только когда она рассказывала о своем детстве или пересказывала Шекспира, и было ощущение, что ее охватила лихорадка.
И все же что-то тревожило ее, и это было скрытое присутствие Харви, которому, казалось, подчинялось все на большой вилле – и вещи, и люди. Ее голос становился нервным, слегка раздраженным, когда она говорила о нем.
– В доме расставляют цветы так, как ему нравится, и покупают картины его любимых художников, а днем иногда я слышу яростные удары топора в саду: там казнят деревья, которые ему не по душе. Нет, нет, я всегда говорю Арлетте: нужно сопротивляться. Когда я устаю играть, мы, чтобы отдохнуть, гуляем по саду или пьем чай, и она сразу начинает рассказывать мне о брате.
– И что она говорит? – спрашивала я с любопытством.
– О, не знаю, – отвечала она небрежно, – я едва слушаю.
Но я знала, что это неправда.
Однажды я видела, как она спускалась по лестнице, пока машина Пирсов, которая каждый день приезжала за ней, стояла у ворот. Она почти бежала по ступенькам, как девушки, только что вышедшие из подросткового возраста и жаждущие пройтись по улице, чтобы увидеть в глазах мужчин подтверждение своей привлекательности и женской силы. Никто бы не подумал, что ее ждет пустая машина.
Но она и не была пустой. Там, с самого начала, ее ждал Харви. В комнатах виллы не было видно его фотографий, но на фортепиано лежали восковые слепки его рук. Белые, обрезанные у запястья, отделенные друг от друга, потому что – как объяснила Арлетта – они служили моделью для одной из статуй святого Себастьяна.
– Я прикоснулась к ним, когда Арлетта вышла из комнаты. И, знаешь, они не холодные. Воск сохраняет человеческое тепло, – сказала она, положив свою руку на мою.
Оставшись одна, я провела этой рукой по своему плечу, по шее, чтобы почувствовать то же самое. Это было очень волнующее ощущение.
Однажды вечером я спросила маму, почему Харви не живет на вилле Пирс.
– Он болен, – ответила она каким-то особым тоном, таким же, каким о мистере Харви говорила Арлетта и даже слуги. Однако никто не упоминал конкретной болезни. Возможно, на физическое отклонение попросту списывали его особенную манеру говорить, чувствовать, жить.
Тем не менее, уверяла Арлетта, Харви даже играл в футбол, еще мальчиком. Он тогда был увлечен строительством маленьких планеров, и все думали, что он станет инженером. Об этих планерах много говорили, когда Харви не было рядом. Это было одной из первых вещей, которые мама узнала о нем. «А потом?» – спросила она. И тогда начинались таинственные разговоры вполголоса. Вскоре началась война: Харви было пятнадцать, Ширли – девять, а Арлетта только родилась. Пирсы жили в Брюсселе, на вилле, похожей на их дом в Риме, с тем отличием, что решетки ее ограды смотрели на большой и многолюдный городской проспект. К вечеру Харви выходил из кабинета и садился у ворот. На проспекте больше не появлялись мирные бюргеры, не спеша прогуливающиеся перед ужином. Вместо них шли молодые люди, одетые в военную форму, с ружьями на плечах, пистолетами на поясе или штыками – в общем, с оружием. Солдаты не обладали для Харви той притягательностью, которая так типична для мальчишек, – скорее, он испытывал к ним отвращение. Он останавливал их под каким-нибудь предлогом, подзывая к решетке. Рассматривал форму, знаки отличия полка, старался разглядеть лица под фуражками. Потом говорил им: «Не ходите на войну. Нельзя стрелять в людей, которые ничего плохого не сделали». Солдаты удивлялись, слыша такие слова от мальчика. А он продолжал: «Выбросьте форму, бегите. Бегите в деревню, прячьтесь». У решетки собирались кучки зевак. Испугавшись внимания, которое он привлек, Харви убегал в свою комнату.
Харви перестал строить планеры; более того, если он слышал глухой гул пролетающего над домом самолета, он бледнел. У него случались внезапные и необъяснимые приступы лихорадки, во время которых он бредил о людях, заживо погребенных в подводной лодке, которые не могли больше подняться со дна моря. «Нужно спасти их, – говорил он, – спасти, освободить. Они любят спокойное море, они моряки, рыбаки». Ему снилось, что он ныряет в глубины океана, где растут коралловые деревья и лежат россыпи жемчужин. Он метался в бреду. «Я стучу по корпусу лодки, стучу, стучу, стучу. Они больше не отвечают». Известные врачи приезжали обследовать его. Харви смотрел на них, красный от лихорадки. «Они больше не отвечают, – повторял он с широко раскрытыми от ужаса глазами, – они больше не отвечают». Врачи осматривали его, а Виолетта Пирс следила за ними, ожидая вердикта. Потом, моя руки и медленно намыливая между пальцами, они говорили матери, которая не сводила с них глаз: «Он совершенно здоров, синьора». «А лихорадка?» – спрашивала она. Они молчали, тщательно вытирая руки, каждый палец, каждую фалангу. Она ждала. «Нервы, синьора, нервы: легкая неврастения». Харви больше не покидал большой сад виллы, и родители не настаивали на этом. Он не хотел видеть висящие на городских стенах огромные агитационные плакаты, призывающие подписываться на военные займы[8]: на них были изображены люди с оторванными конечностями, в форме, залитой кровью. «Не нужно воевать», – продолжал говорить он, прижавшись бледным лицом к решетке.
Люди уже знали мальчика: кто-то даже ждал, когда он появится, чтобы начать его ругать и оскорблять. Харви был высоким блондином. «Немец! – кричали люди, увидев его. – Бош![9]» А он отвечал: «Я не немец, но какая разница, если бы я и был им?» «Бош, – продолжали кричать и свистеть они, – грязный бош». В него бросали камни, и один попал ему по щеке. Самые молодые залезали на высокие прутья решетки, чтобы удобнее было издеваться над ним. «Не нужно причинять боль, – продолжал мальчик без злобы, – нужно любить всех, даже немцев, каждый человек – это мир, созданный Богом». Они продолжали осыпать его ругательствами. «Протестант! – кричали они. – Шпион, бош!» В него снова полетели камни. Харви развернулся и спокойно вернулся в дом, кровь стекала по его одежде. Мать, увидев его раненым, упала в обморок. На следующий день в дом пришли три или четыре человека и, поскольку Пирсы были иностранцами, предложили им немедленно уехать, покинуть Бельгию. Для их же безопасности, говорили они. Для их безопасности они также обыскали ящики Гарольда Пирса.
* * *Пирсы вернулись в Англию, а после окончания войны переехали в Италию, потому что Харви хотел изучать музыку.
– Все началось именно так, – заключала Арлетта, качая головой, – с этой ненависти к войне. Раньше, как я говорила, все думали, что он станет инженером. Мне бы хотелось, чтобы у меня был брат-инженер, который строил бы мосты и дома. Но Харви не нравятся дома. Он никогда не ходит на нашу смотровую площадку, ту, знаете, на самом верху виллы. Оттуда видны купола и дома, все дома Рима, розовые, красные и желтые, такие отличные от мрачных домов Лондона. Огромная панорама, как с вершины Джаниколо. Только папа и я иногда поднимаемся туда, чтобы полюбоваться видом. Мама не одобряет наши вкусы. И все же, поверьте, синьора, там действительно красиво вечером: видны вспышки трамваев, огромные неоновые вывески, горящие огни… Из окна Харви виден только большой ливанский кедр, очень старое дерево; мой брат всегда рассказывает о нем легенду. Я не смогла бы пересказать ее, она довольно длинная, да и в моем пересказе она потеряла бы все свое очарование: я не умею так рассказывать, как Харви, который превращает обычные истории в необыкновенные. В общем, говорят, что внутри этого дерева заключен конь. Когда по ночам шумят ветви, Харви слышит его ржание.
* * *Когда мама это рассказывала, ее голос становился теплым и тихим, как у Октавии, читающей послания духов. В слабом свете, освещающем комнату, темная мебель казалась мрачными выступающими скалами. На стене напротив кровати папа повесил большую фотографию своих родителей: они были изображены по пояс, их плечи соприкасались, а глаза строго смотрели на фотографа. Одетые в темное, на молочно-белом фоне увеличенного снимка они тоже казались твердыми скалами, утесами.
– Мама, – прошептала я, – я не думаю, что брат Арлетты болен. Папа тоже, помнишь, крутит пальцем у виска, когда говорит, что мы больны.
– Он так говорит, да?
Она повернулась, чтобы посмотреть на меня: возможно, хотела прочитать в моих глазах истинный смысл того, что я сказала. Потом она крепко обняла меня, и мы молча лежали, обнявшись, на высокой кровати. Про себя она, конечно, говорила «девочка моя», говорила «Санди», говорила «милая, дорогая», но я должна была догадаться об этом, не спрашивая, понять по ее отчаянному объятию, которым, как она вспоминала, обнимала и ее мать. Я чувствовала, что однажды только так и смогу обнимать другую женщину, которая будет моей дочерью.
На следующий год Арлетта начала играть на фортепиано; всю зиму моя мать ежедневно ходила на виллу Пирс, а я оставалась одна. Это была грустная и дождливая зима, или, может быть, она казалась мне такой из-за чувства одиночества. Теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, что я до сих пор ощущаю запах сырой земли и вижу белое, затянутое облаками небо за окном.
Оставшись вдвоем, мы с отцом часто разговаривали. Он, казалось, стремился сблизиться со мной, но не из интереса к моему воспитанию или желания узнать меня получше, а просто чтобы поболтать и скоротать время. Он садился рядом со мной и просил, чтобы я рассказывала ему сплетни о девушках из нашего дома, которых он иногда встречал на лестнице. Он не знал, чем себя занять, когда не работал и не читал газету, в которой внимательно изучал даже объявления, хотя никогда ничего не покупал и не продавал, и самые незначительные новости из провинции. Чтение газет, по его мнению, было делом обязательным, а чтение книг – пустой тратой времени. Хотя он только тем и занимался, что тратил время: сидел в кресле, подпиливая ногти, смотрел в окно, ходил выпить кофе в баре на углу. Два раза в год он ездил в Абруццо к Бабушке и возвращался с деньгами, вырученными от продажи оливок и сушеного инжира.
Мы ходили на вокзал все вместе – мама, Систа и я, – чтобы помочь ему донести до трамвая две большие корзины с припасами. Мы редко бывали на шумных центральных улицах среди толпы, и на вокзале мы с широко раскрытыми глазами наблюдали за людьми, которые приезжали и уезжали, направляясь в неизвестные страны. Я вспоминала, как мама описывала сказочные города, где бабушка выступала на сцене. Как за хвост кометы, мы цеплялись за серый дым, который вился из труб, и уносились в мечтах далеко-далеко. Пыхтение паровозов заставляло наши сердца биться чаще. «Эти рельсы ведут в Вену», – говорила мама, и мы обе старались проследовать по ним взглядом до самого конца.
Систа сообщала: «Вот поезд», – и ее серьезный голос, ее строгий вид в черном платье, с черным платком, завязанным под подбородком, возвращали нас в нашу меланхоличную обыденность. Все еще витая в мечтах, мы отступали назад, боясь попасть под колеса локомотива. Наконец корзина, покрытая белой тканью и прижатая к окну поезда, сообщала нам, что отец приехал.
Обнимая нас, он сразу же объявлял: «Я привез качотту и капоколло»[10]. Ему нравилось хорошо поесть. У него был вид гурмана и манера одеваться, свойственная зрелому мужчине, который хочет нравиться женщинам. Он всегда носил с собой расческу и портсигар с парой легких сигарет, хотя курил редко. В субботу после обеда перед выходом на улицу он наносил бриолин на усы и волосы, и после того, как за ним закрывалась дверь, в комнатах оставался резкий запах, который меня сильно раздражал. Я открывала окна и двери, чтобы избавиться от него, и пока этот дух полностью не выветривался, мне казалось, что я не по-настоящему одна. Я не любила отца и всегда отвечала ему резко или грубо, хотя привыкла быть вежливой со всеми.
Иногда он подходил ко мне, когда я сидела в своем углу у окна. Его присутствие так меня раздражало, что я становилась враждебной и грубой.
– Что ты делаешь? – спрашивал он, прерывая мое чтение.
– Разве ты не видишь? – отвечала я резко.
– А, понятно. О чем это?
Неохотно я показывала ему обложку.
– Тебе нравится читать, да?
И затем добавлял:
– Ты вся в мать.
В его голосе звучала легкая нотка презрения; он так делал каждый раз, произнося «мать» вместо «мама».
– И что это значит?
– А то, что вы не такие, как другие женщины, которым нравится ходить в кино, сидеть в кафе, а дома шить, готовить, наводить порядок. Вы принцессы.
Он часто называл нас так, имея в виду, что этот дворянский титул сочетает в себе лень и любовь к безделью и бесполезным изысканным вещам. Дрожа от гнева, я сохраняла ледяное спокойствие, чтобы не дать ему возможности увидеть всю глубину моего негодования.
– Почему ты так говоришь? – спрашивала я, не глядя на него, продолжая листать страницы книги. – Мы слишком много тратим, может быть?
– О, нет, конечно.
– Дома беспорядок? Тебе не нравится еда?
– Наоборот.
– Мы требуем развлечений и роскошной одежды?
– Нет, конечно нет.
– Тогда что? – спрашивала я, наконец поднимая на него взгляд, полный скрытой неприязни. – Что тогда?
– Тогда – я не знаю, но вы не такие женщины, как остальные, точно тебе говорю. Может, все из-за книг. Но у вас здесь что-то не так, – он подносил указательный палец к виску и делал вид, что закручивает ногтем винт. Этот жест, который он так часто повторял, выводил меня из себя. Я чувствовала желание ударить его кулаком, сильно; но вместо этого я с большим усилием опускала глаза в книгу и продолжала читать. Он и дальше сидел в кресле, поскольку ему нечего было делать; чистил ногти моим ножом для бумаг и наблюдал за мной, как будто я была случайной попутчицей в трамвае. Когда он смотрел на меня так, я инстинктивно поправляла юбку на коленях.
Наступали долгие неловкие паузы. Затем он подводил итог осмотру моей персоны:
– Ты худая, – говорил он. – В твоем возрасте у девушек уже есть грудь.
Я краснела, словно получив пощечину, и чувство унижения расползалось по моей коже: я не считала, что он имеет право обсуждать со мной столь интимные вещи, которые выходят за рамки доверия, допустимого в отношениях отца и дочери.
– Ты вся в мать.
– Моя мать очень красивая женщина, – горячо возражала я.
– Да, – спокойно отвечал он. – Но груди у нее нет.
Он вставал, шел читать газету, слушать радио и оставлял меня побежденной.
Характер отца и его слабость к женским формам не ускользали от Фульвии, которая говорила мне:
– Твоему отцу очень нравятся женщины. Я вижу это по тому, как он на меня смотрит. Недавно он остановил меня на лестнице и спросил: «Ты подруга Алессандры, да?» Я кивнула и убежала. Он хотел завязать разговор. Но мне противны мужчины, у которых есть жены.
Много лет спустя Фульвия призналась, что в те времена он часто поджидал ее на лестнице. Он не делал ей никаких непристойных предложений и не пытался поцеловать, он просто хотел прикоснуться к ней, как к вещи. Еще она сказала, что, несмотря на отвращение, которое вызывали его руки, она не решалась защищаться, чувствуя нечто вроде почтения к пожилому мужчине, мужу подруги ее матери. Она позволяла ему прикасаться, делая вид, что не понимает смысла этих прикосновений и принимает их за шутку.
Фульвия была тогда очень мила; или, может быть, мила – не самое подходящее слово. Она была привлекательна и красива той вызывающей красотой, которая присуща многим девушкам римской буржуазии ее возраста. У нее были черные блестящие волосы, тщательно уложенные, и большой бюст, который она не пыталась скрыть. Если кто-то шепотом говорил ей комплимент, когда мы гуляли вместе, она отвечала громко и остроумно. Она не замечала моей застенчивости, моего смущенного румянца. Она вела регулярную переписку с парнем, который жил в доме напротив, и общалась с ним через окно с помощью языка жестов. С другим, своим одноклассником, она ходила гулять за город, прогуливая уроки. Впрочем, ей не приходилось лгать, потому что по большей части она была свободна: Лидия часто проводила целые дни с капитаном.
Впрочем, пользовалась она этой свободой скупо. Когда мать уходила, она садилась перед туалетным столиком и развлекалась, крася губы и глаза, укладывая волосы в разные прически, зачесывая их на затылок или собирая в пучок, повторяя картинки из журналов о кино, которые читала запоем. Дома она одевалась очень небрежно, как почти все девушки в нашем доме; носила потрепанные хлопковые платьица, выцветшие от многочисленных стирок и ставшие короткими и узкими, порванные под мышками; на ногах – старые туфли, которые она использовала как тапочки; летом она вообще разгуливала почти голая в коротком цветастом халатике, туго перевязанном на талии поясом. Оставаясь одна, она натирала лицо оливковым маслом, клала на него ломтики картофеля и лимона, хотя у нее и так была очень свежая кожа. Эта кожа являлась, пожалуй, самой красивой ее чертой: нежная, прозрачная, бархатистая. Когда мы оставались одни, мне хотелось спросить ее: «Можно потрогать?», но я не решалась.
Я же становилась все более молчаливой и замкнутой. Если бы не Фульвия, я бы целые дни проводила в одиночестве. Я чувствовала, что взросление меняет меня, и это вызывало у меня одновременно восторг и страх. То, что произошло с Маджини, конечно, не добавило мне популярности в школе. Ответы на вопросы учителей часто были единственными словами, которые я произносила за весь день. Одноклассники не проявляли ко мне никакого интереса. «Она высокомерная и неприятная», – услышала я однажды; в другой раз я слышала, как они говорили: «Она некрасивая».
Часто даже Фульвия игнорировала меня целыми днями. Потом вдруг звала меня со двора: «Иди сюда», – приказывала она. По первому зову я закрывала книгу и бежала к ней, перепрыгивая через две ступеньки.
Я находила дверь приоткрытой; в пустом, тихом доме Фульвия занималась каким-нибудь личным делом, которое не прерывала из-за моего прихода. В поздние летние вечера мы подолгу сидели и разговаривали на террасе. Она возвышалась над городом, и казалось, что наш большой дом возносит нас ввысь, к триумфу. Сверху были видны только пустые террасы, красные крыши домов и колокольня, в которой находили себе приют ласточки.