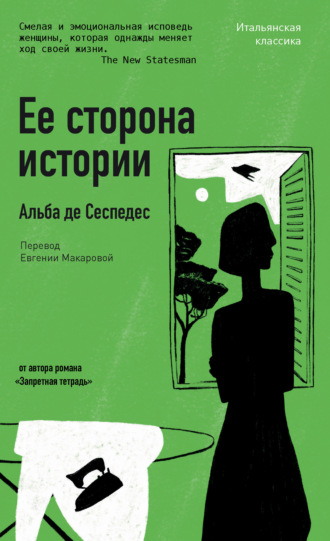
Ее сторона истории
– Нам кажется, что мы хотим освободиться от старых предрассудков, от семьи, от принципов, которые нам навязали, – продолжала Фульвия. – А возможно, это совсем не так. Возможно, это молчание вокруг некоторых вещей, это оно душит нас, пережимает вот здесь… – она приложила руки к горлу. – Мы же недовольны, правда? И мы думаем, что это из-за… – она не решалась произнести слово, – …что это из-за…
– Из-за любви, – тихо подсказала я.
– Да, – подтвердила она и сделала паузу. – Но, возможно, не только из-за этого. Мне кажется, что мужчины знают правду и скрывают ее от нас, как скрывают плохие новости от детей.
– Антонио знал, я думаю, – сказала Аида. – И поэтому смотрел на меня с грустью.
– Антонио был помолвлен? – спросила я после небольшой паузы.
– Не знаю, – ответила Аида. – Он никогда ничего о себе не рассказывал. Говорил «доброе утро», «добрый вечер» и молча курил одну сигарету за другой.
Маддалена ничего не говорила. Она принесла с собой куклу, по своей привычке все еще изображать ребенка в глазах родителей, а может, и в своих собственных. Это была милая тряпичная кукла, одетая в розовое платьице, с полуоткрытым в улыбке ртом и яркими голубыми стеклянными глазами. Пока мы разговаривали, Маддалена ковыряла ногтем ткань вокруг кукольного глаза, и теперь глаз лежал на полу и смотрел на нас. Постепенно она выковыряла и второй глаз, потом медленно, с холодной жестокостью выдрала волосы. Раздавила нос и подушечкой пальца вдавила его в лицо, которое сразу – лысое и с пустыми глазницами – стало похоже на череп с нарисованным красным румянцем на щеках. После этого Маддалена опустила голову на грудь и расплакалась, глядя на ужасную рожу куклы:
– Моя кукла, – приговаривала она, – моя кукла…
Услышав плач, зашла Лидия и принялась утешать ее, говоря, что она уже слишком взрослая для таких игр, они больше не подходят ей по возрасту. Чтобы успокоить ее, она подарила ей свой красный шарф с цветами.
– Они еще дети, совсем дети, – сказала она моей матери вечером. И рассказала, как Маддалена плакала из-за тряпичной куклы.
Иногда мне кажется, что я слишком затягиваю рассказ о событиях, предшествовавших моему замужеству. Но при этом я понимаю, что, если бы обошла молчанием то, как жила, что чувствовала в то время, вы бы ничего не поняли обо мне, о моем характере и, в общем, о том, кто я такая. Какими бы мрачными и тяжелыми ни казались те события, сейчас я думаю, что это было время абсолютного счастья – прежде всего потому, что мне довелось жить рядом с таким необыкновенным существом, как моя мать. По меркам морали она, возможно, была неидеальной, но ее несовершенства, слабости и то полное любви сочувствие, которое двигало всеми ее поступками, были именно теми чертами, которые делали из нее, живой и настоящей, поэтическую легенду. Моя мать была так же далека от меня, как персонажи книг: женщина, которой всегда хотелось быть, но которой никогда не становишься до конца. Если бы я потеряла память о своем детстве и о ней, у меня не осталось бы ничего, что имело для меня значение и приносило радость, я потеряла бы сказку моей жизни. Сейчас благодаря этим воспоминаниям я могу легко заполнить долгие часы одиноких размышлений, которые теперь составляют мою монотонную реальность. Впрочем, еще в детстве я научилась быть счастливой в одиночестве: как я уже говорила, мы были бедны, а бедные привыкли отвлекаться своими мыслями. Наша бедность, а также быстро приобретенная привычка к постоянному одиночеству и вынужденному вниманию лишь к самой себе и своим чувствам стали, по сути, моим единственным богатством. Однако я должна признать, что чрезмерное значение, которое я всегда придавала этому, и моя природная склонность относиться к жизни ответственно и серьезно стали во многом причинами моего нынешнего состояния.
Возможно, я действительно была непохожа на других знакомых девушек: все во мне находило отклик, преображалось, становилось волшебным. К вещам, которые меня окружали, я была привязана с мучительной нежностью. Растения на лоджии, их листья, их лепестки были частью меня до такой степени, что мне казалось, я питаю их своей кровью. Утром, едва встав, я сразу бежала на лоджию, чтобы поприветствовать их: мне не стыдно признаться, что, если было холодно, я становилась на колени, чтобы согреть их своим дыханием.
В те времена мне доводилось испытывать живое присутствие счастья: оно приходило ко мне, когда я сидела с матерью у окна. Мы привыкли оставаться дома, только вдвоем, в воскресные послеполуденные часы, занимаясь вышиванием или шитьем. Систа сидела позади нас, штопая свои черные одежды. На террасе напротив монахини, ошалелые от свежего воздуха, тоже наслаждались воскресным отдыхом: иногда они водили хороводы и смеялись невинными голосами, а их юбки раздувались темными колокольчиками.
Я шила молча, но в голове у меня роились бесчисленные образы: я мечтала посвятить себя ремеслу швеи и провести жизнь, спокойно сидя с белой тканью на коленях, ограничив свой горизонт кусочком ясного прозрачного неба над двором. Скромный смех монахинь, скрип иглы матери убеждали меня, что я часть гармоничного доброго мира. За моей спиной Систа шептала молитвы, и я чувствовала себя настолько набожной и благочестивой, что хотела подражать ей. Но в этом не было необходимости. В те моменты сама моя жизнь была молитвой.
Моя мать работала самоотверженно. Ее тонкая шея, склоненная над шитьем, нежный профиль, легкая копна волос вызывали у меня умиление, а усердие, с которым она шила, напоминало то, с каким она играла на пианино по вечерам. Что-то пробудилось в ней с тех пор, как она стала бывать на вилле Пирс. Она начала придумывать и вышивать причудливые узоры и невиданные цветы.
Наступали поздние весенние сумерки. Сад монахинь был усыпан тяжелыми гроздьями глициний, и их аромат вызывал легкое головокружение. В часовне за красными витражами зажигались свечи.
– Уже ничего не видно, – говорила мать. – Скоро вернется папа.
Поначалу он протестовал против нашего решения оставаться дома по воскресеньям. Потом привык к свободе, и в конце концов она полностью им завладела. Он уходил сразу после завтрака, возвращался к обеду и, прежде чем сесть за стол, закрывался в ванной, чтобы помыть усы и руки.
Однажды Систа пошла готовить ужин, мы остались одни, и мать сказала глухим и тихим голосом:
– Ты, наверное, задаешься вопросом, почему я вышла за него замуж…
До этого она никогда не говорила со мной на такие темы, как никогда не показывалась мне без одежды.
– Тебе, наверное, будет нелегко это понять, – продолжила она. – И сейчас мне самой это кажется непостижимым, абсурдным, но тогда…
– Нет, наоборот, я понимаю, очень хорошо понимаю… – с готовностью ответила я, и она, замолчав, опустила глаза. Она не ожидала, что я уже настолько знакома с жизнью, и была удивлена и даже немного напугана, как в тот раз, когда я призналась ей, что ударила Маджини.
Действительно, причина ее замужества вызывала у меня много вопросов, пока я не начала каждую ночь вызывать у себя в воображении фантастический образ Энея.
Раньше я часто задавалась вопросом, как моя мать могла быть близка с мужчиной, который весь день вел себя с ней как назойливый незнакомец. Еще ребенком каждый вечер, когда она говорила мне «спокойной ночи», выглядывая из-за двери своей комнаты, я хотела схватить ее за руку и удержать: в узкую щель, которую она старалась сделать как можно меньше, я видела, как отец снимает туфли.
В зеркале шкафа отражалась высокая торжественная кровать, застеленная белым, кровать, которая приехала из Абруццо и в которой, как мне говорили, умерла сестра моего отца. Обои были серые, цвета стали. Я боялась, что моя мать, такая хрупкая и чистая, больше не выйдет из этой мрачной комнаты. Я смотрела на нее, протягивая к ней свои худые руки. «Приходи спать со мной, мама», – просила я, и голос мой дрожал от слез.
Мать качала головой, мягко отстраняя меня. «Не бойся, – говорила она. – Ночь пройдет быстро, завтра мы снова будем вместе». Медленно закрывала дверь. Наступала зловещая тишина, не нарушаемая ни словом, ни вздохом. Я стояла на своей кровати, отчаянно прижимая ухо к стене, чтобы убедиться, что она еще жива. Но ничего не слышала. Когда я стала постарше, в этой тишине я представляла, как к моей кровати приближается Эней.
– Да, я понимаю, – резко прервала ее я, когда она попыталась объяснить мне причины своего замужества.
Отец говорил, что их помолвка была короткой. Моя мать была еще совсем юной, ей только исполнилось семнадцать лет. «Мы катались на лодке по воскресеньям, помнишь, Элеонора?» – говорил он, выпячивая грудь и слегка откидываясь на стуле, словно гордился этими прогулками как героическими подвигами. «Помнишь?» – настаивал он, не сводя с нее взгляда, заставляя ее повернуться и сказать: «Да, да, помню». Потом он начинал шутить, рассказывая, как моя мать сидела на другом конце лодки, пытаясь держать дистанцию между ними. Он изображал ее испуганной, бледной, вечно боящейся потерять шляпу. «Лицо у нее было белое-белое, – говорил он, смеясь. Ему нравилось дразнить ее, описывая ее застенчивость. – Она даже пыталась избегать меня, представляешь, Алессандра? Вела себя как капризная девчонка: „Нет, в воскресенье я не могу, у меня дела“. А потом все равно приходила, мне даже не нужно было особо настаивать, она всегда приходила. Правда, Элеонора?» Я бросалась обнимать мать, слезы наворачивались у меня на глаза. «Мы выходили на берег, устраивали пикник на лугу. Ты помнишь этот луг?» – он постоянно задавал ей вопросы, спрашивал ее, чтобы заставить мысленно вернуться к определенным деталям. «Да, – говорила она. – Да, я все помню». «Мы возвращались к вечеру, и твоя мать была уже вся красная, правда, Элеонора, правда?» Если она не отвечала, он сразу повторял с настойчивостью: «Правда, что ты возвращалась вся красная?» Он не сводил с нее взгляда, задавая вопросы; его блестящие глаза скользили по ней, пока она наконец не отвечала, прерывисто дыша, как после бега: «Да, конечно, я краснела от свежего воздуха и яркого солнца». На это он в ответ смеялся, смеялся. Мать взглядом умоляла его замолчать, чтобы я не поняла, о чем они говорят. Но я все прекрасно понимала и надеялась, что не попаду в такую же ловушку, в какую была поймана ее юная невинность.
* * *Уже почти год моя мать ходила на виллу Пирс, и те послеполуденные часы, которые она проводила с Арлеттой, те новости, которые девушка рассказывала ей о Харви, цветение гортензий или акаций – все происходящее на вилле стало нашим главным развлечением. Я могу говорить «нашим», потому что, возвращаясь домой, она пересказывала мне все с такой точностью, что я чувствовала себя участницей событий. Эти рассказы так меня увлекали – обогащенные к тому же очарованием ее голоса и грацией ее жестов, – что ближе к вечеру, когда приближалось время ее возвращения, меня охватывало жгучее нетерпение. Если она задерживалась, мне казалось, что она лишает меня чего-то важного, нарушает мои права. Как только она заходила, я спрашивала: «Ну что?» Мне казалось, что я читаю увлекательный роман с продолжением.
Конечно, мне казалось невероятным, что такая жизнь действительно существует. На самом деле, она и сама иногда путалась, рассказывая мне по вечерам истории Арлетты о брате. Она проводила рукой по лбу: «Нет, может быть, все было не совсем так», – говорила она, пытаясь отыскать что-то в своей памяти. Она была так возбуждена, что боялась возвращения Харви как угрозы, насилия. «Я больше не пойду туда, если он вернется. Нет, правда не пойду!», – восклицала она. Арлетта подарила ей фортепианные ноты тех произведений, которые он любил, и просила ее сыграть их, а сама тем временем смотрела на пальцы моей матери, летающие по клавишам. «Я хотела бы играть, как вы», – говорила она, глядя на нее со сдержанной завистью. Моей матери становилось почти страшно. «Я могла бы играть брату, – продолжала она, – оставаться с ним в этой комнате часами. Но я не смогу. А вы сможете, – объявляла она. Жадный взгляд озарял ее круглое добродушное лицо. – Вы сможете аккомпанировать ему, когда он играет на скрипке. Харви будет стоять здесь, рядом с вами. Давайте попробуем, – говорила она, передвигая пюпитр. – Вот отсюда».
Воздух вокруг пюпитра расступался, образуя пугающую пустоту. Моя мать пыталась улыбнуться, шутливо говорила: «Ну все, хватит». Но Арлетта настаивала: «Давайте попробуем». Она спрашивала, почему моя мать всегда одевается в черное. «Я бы хотела… – начинала она. Подходила ближе, касалась ее плеча, трогала ткань жакета. – Если бы вы были не такая высокая, я бы одолжила вам одно из своих платьев».
Когда мать рассказывала все это, ее лицо было похоже на раскрытую книгу. Мы были в ее комнате, оналежала на кровати; весна уже была в разгаре, и мы оставляли окно открытым: со двора слышался резкий голос женщины, ругающей сына, сын плакал, раздраженно хлопали ставни, слышалось шипение масла на сковородке, комнату заполнял запах лука. Стыдливо я шла закрывать окно, но закрывая его, словно обнимала весь двор. Казалось, мы были живыми людьми, а те, с виллы Пирс, – недостижимыми ангелами. Так что, если бы не восхитительный испуг, который светился в ее глазах, я бы решила, что моя мать грезит, когда однажды вечером, вернувшись, она тихо сказала: «Я познакомилась с Харви».
С того дня все изменилось. Или, возможно, все изменилось уже в тот самый момент, когда она впервые легко сбежала по лестнице вниз и большая машина унесла ее прочь.
Я должна была, наверное, почувствовать опустошение или начать осуждать ее, но вместо этого – я отлично помню – в душе у меня разлилась сладкая тишина: я была счастлива. Я не спросила ее, как обычно по вечерам: «Ну что?», подталкивая к рассказу: я чувствовала, что совершила бы бестактность. Теперь и я осталась за пределами музыкального зала, за оградой виллы, как и весь наш дом и двор. Но я не испытывала страданий: это событие казалось мне давно предрешенным, и я удивилась, что только теперь в ее глазах появился страх. Она спросила, вернулся ли отец, и, получив отрицательный ответ, облегченно вздохнула. Она направилась в свою комнату, и я чувствовала, что сегодня она не позовет меня к себе. И она действительно не позвала. Я еще немного постояла в темном коридоре, а затем пошла на кухню и опустилась на стул. Систа остановила на мне на мгновение свой взгляд и спросила:
– Она познакомилась с братом Арлетты, да?
И я кивнула.
Однако в течение нескольких последующих недель моя мать больше не упоминала Харви. Она стала необычайно молчаливой и рассеянной: за столом, если отец обращался к ней, мне приходилось мягко касаться ее руки, чтобы привлечь внимание. Она часто поднималась к Челанти, чтобы позвонить и перенести уроки: почти все она назначала на утро. Я слышала, как она вставала очень рано, еще затемно, пытаясь наверстать время, проведенное на вилле Пирс.
Она ходила туда каждый день после обеда. Перед выходом она заглядывала в столовую, где мой отец сидел у радио. «Ну, я пошла», – говорила она. Иногда она внезапно возвращалась и обнимала его, как будто отправлялась в путешествие. Вечером, вернувшись домой, она садилась со мной у окна. Больше она ничего не рассказывала. И это ее молчание было первым правдивым рассказом о вилле Пирс.
В сумерках на террасе можно было увидеть монахинь, прогуливающихся во время своего короткого перерыва. Они ходили парами или небольшими группами, шелестя юбками. Иногда, если это были молодые монахини, они бегали друг за другом, двигаясь сдержанно, застенчиво. Все они были так грациозно женственны, что казалось, будто они надели эту строгую одежду только ради игры. Наверное, весна преобразила их. И действительно, повсюду можно было видеть, как настойчиво зарождается новая жизнь: на стене монастыря молодые листья глицинии за несколько дней поменяли свой робкий зеленый цвет на яркий и смелый; пучки травы пробивались между старыми камнями, как перья на шляпе, – капризные, безумные порывы фантазии. Сама природа принимала участие в любви моей матери, и мне казалось, что весна пришла только ради нее.
Скоро на нежном покрывале небосвода появилось золото первых звезд. Деревья стали серыми, а потом, укутавшись ночными тенями, совсем черными. «Иди сюда», – говорила мама, приглашая меня сесть с ней в кресло.
Отец выводил нас из сумрака, внезапно включая свет.
– Чем вы тут занимаетесь?
Ужин был готов, дом убран. Мне казалось, я чувствовала его досаду из-за отсутствия повода нас упрекнуть.
– Безумие, – говорил он себе под нос и постукивал пальцем по виску. – Безумие.
И смотрел на нас долгим взглядом, пытаясь понять причины нашей инакости.
– Вы очень бледные, – замечал он. Потом поворачивался к моей матери и добавлял: – Ты выглядишь больной.
И действительно, ее всегда розовеющие скулы, высокие и выразительные, стали белыми, как свежевыпавший снег.
– Элеонора, ты становишься некрасивой, – сказал ей однажды отец.
Мы еще сидели за столом. Отец допивал кофе и изредка затягивался сигаретой: не имея привычки курить, он держал сигарету слишком претенциозно, сильно сжав ее между указательным и средним пальцами. Медленно он подносил ее к вытянутым губам и выпускал длинные густые клубы дыма.
Она подняла взгляд, уставившись на него со смесью злобы и иронии, – возможно, ждала, что он скажет: «Я пошутил».
– Ты некрасива, – повторил он. – Прямо скажу тебе: в последнее время ты стала некрасивой.
Мать молча смотрела на него еще некоторое время, а затем разразилась хохотом: я никогда не видела, чтобы она так смеялась, запрокидывая голову, откидываясь на спинку стула. Она не была кокеткой; я уже говорила, что обычно она одевалась наспех, нахлобучив шляпу и даже не глядя в зеркало. Поэтому ее уверенный смех и поза удивили меня.
Она резко встала, быстро обошла стол и исчезла в темной гостиной. Мы услышали, как она решительно заиграла: это была пасторальная мелодия, напоминающая о зеленых лугах и чувстве утренней свободы; постепенно она становилась все более интенсивной, неистовой, начала разливаться веселым арпеджио, праздничными серебристыми трелями. Она играла уверенно и даже вызывающе, казалось, что она продолжает смеяться, запрокинув голову. Мне хотелось подбежать к ней: «Мама!», предупредить ее: «Мама», попросить, чтобы она остановилась, – мне казалось, она потеряла всякий контроль и, сама того не замечая, выставляет напоказ свои самые сокровенные чувства. Но взгляд отца приковал меня к стулу.
Закончив играть, она вернулась в столовую, оперлась на стол и с торжествующей улыбкой наклонилась в нашу сторону. Ее щеки горели ярким румянцем.
– Знаете, что это было? – спросила она, говоря о сыгранном отрывке. И, не дожидаясь нашего ответа, продолжила: – «Весна» Синдинга. Ничего особенного, правда? Но это как пробежаться по лугу ранним утром.
Счастливая, она начала танцевать вокруг стола, напевая мелодию.
– Дин, дан, дадан, дан, даданда, – пела она своим кристально чистым голосом.
«Дин, дан, дадан, дан» – мне казалось, что под ее ногами сейчас начнет расти трава, цвести гиацинты, забьют источники живой воды; «дин, дан, дадан» – возможно, сейчас распахнется окно, и она улетит, как ласточка. Систа смотрела на нее неподвижно, сложив руки на коленях. Отец был серьезен. Я обожала ее, мне хотелось целовать край ее платья. «Дин, дан, дадан».
Внезапно она остановилась, запыхавшись, оперлась спиной на буфет:
– Я сыграю это на большом концерте, – сказала она, – который состоится через несколько дней на вилле Пирс. Вы приглашены.
* * *Моя мать всегда мечтала дать концерт. Отец возражал, что расходы окажутся слишком велики, а мы не знаем никого, кто мог бы позволить себе купить билеты. Но она его не слушала и продолжала говорить о музыке, которую хотела бы исполнить, о том громком успехе, который бы ее ждал. Увлеченная своими мечтами, она оживленно ходила по комнате и пыталась развеять скепсис мужа, выражая надежду, что наше материальное положение когда-нибудь улучшится. Она и сама знала, что этого никогда не произойдет, поэтому она просила лишь дать ей надежду, которая позволила бы ей и дальше лелеять эти мечты. «Правда?» – спрашивала она его с улыбкой. Но он качал головой, говоря, что не видит никаких возможностей когда-либо устроить этот концерт.
Я смотрела на отца, и мой взгляд так яростно светился подавленной обидой, что я надеялась, это ранит его. Нет, нет, качал он головой; и все мечты матери улетучивались.
Но теперь – возможно, потому, что зима закончилась, – казалось, что грустный и темный период ее жизни тоже подошел к концу. Я никогда не считала ее старой, как это часто бывает у детей, к тому же ей едва исполнилось тридцать девять лет. После встречи с Харви она словно опять стала девушкой. Когда мы выходили вместе гулять, люди оборачивались на нее. Причем она по-прежнему одевалась очень скромно, и в ее наряде не было ничего экстравагантного и броского. Но трудно было встретить женщину, обладающую такой грацией, такой внутренней гармонией, как моя мать. Она держала меня под руку, как дерево держит свою ветвь. Она медлила перед тем, как перейти дорогу: казалось, она боялась, что ее собьют; но я знала, что она просто ничего не замечала: экипажи, автомобили, велосипеды проносились мимо нее, как река.
Дома я видела ее такой же рассеянной: она могла долго стоять перед шкафом или ящиком, который открыла и потом забыла зачем. Иногда она останавливалась рядом с моим креслом у окна и смотрела на улицу, слегка склонив голову набок. Боже! Как молода была моя мать в те моменты! Я замечала, что в очертаниях ее щек сохранилась детская свежесть, и все ее движения казались такими сдержанными и целомудренными, как будто она не являлась замужней женщиной, никогда не знала мужского желания, никогда не рожала детей. Любовь к Харви, которую другие, возможно, сочли бы греховной, окутывала ее в моих глазах волшебным покрывалом невинности, которое любое слово, шутка, жест могли бы замарать. Я знаю, что в те моменты моя мать была очень близка к Богу и, конечно, к его заповедям, которые призывают быть добрыми, искренними и честными. Она была такой худой, что ее платье, казалось, покрывало лишь дух. Да, моя влюбленная мама была самым нежным существом, которое я когда-либо видела. «Пойдем», – шептала я Систе, и мы оставляли ее одну у окна.
Молча мы шли на кухню. Я задерживала дыхание, стараясь не нарушить тишину дома, чтобы моя мать могла чувствовать себя в нем защищенной, как в раковине. Я с усердием шила и колола себе пальцы иглой, чтобы наказать себя, сделать больно. Я была недовольна: я боялась, что презренное любопытство, пробужденное во мне Энеем, помешает мне быть похожей на маму. Тогда я часто обращалась мыслями к Антонио, брату Аиды. Он тоже был недоволен, сказала Аида, но вместо того, чтобы смириться с причинами своего недовольства, он позволил отправить себя в тюрьму. Я завидовала его способности быть таким сильным, несмотря даже на то, что это порождало такую глубокую меланхолию. Он мог бы защитить меня, освободить от Энея. И пусть я никогда его даже не видела, я пообещала себя ему, решила ждать его месяцы, годы, говорила себе: «Я его невеста». В этой мысли я искала утешения, не замечая нежного сострадания, которое светилось в незнакомых глазах Антонио. Мы были бы женаты, представляла я, и я бы пошла встречать его у ворот тюрьмы. Но это был другой город, другая тюрьма, а я была взрослой, ответственной, на мне был старый плащ, и я долго ждала, облокотившись на ворота тюрьмы. Наконец Антонио спускался, и я видела его в первый раз. Его облик был уже мне знаком: бледное лицо, темные волосы, худой подбородок, впалые глаза. В руках он держал сверток, и я сразу предлагала понести его; он отказывался, и мы шли молча, с этим свертком, разделяющим нас. Мы выглядели бедными. Я думала, что это моя первая встреча с любовью, и вспоминала легкую, воздушную походку матери в тот день, когда она познакомилась с Харви. Я же с трудом передвигала ноги, рядом шел Антонио, обремененный большим свертком. Я напрасно надеялась дойти до какого-нибудь сада или бульвара, до какой-нибудь зелени. Мы шли вдоль фабричной стены, почерневшей от дыма. Это была окраина большого города с трубами, упирающимися в серое небо, а вдали за темным пляжем лежало плоское свинцовое море. «Антонио», – звала я. Мне хотелось сказать что-нибудь нежное, озарить улыбкой это запустение. Но когда он поворачивал ко мне свои печальные глаза, я предлагала: «Дай я понесу сверток», а он качал головой, и мы молча шли дальше.
Так я и носила в себе оба секрета: низменные желания, которые внушал мне Алессандро, и стремление восстать против подлости, как это сделал Антонио. Эти два чувства боролись во мне, делая меня еще более скрытной. Из окна я смотрела на людей на улице и пыталась угадать, какое имя носит их секрет. Возможно, каждого тяготил скрытый конфликт, постыдный изъян. Моя мать же в своей походке и в дерзком звучании фортепиано гордо несла Харви.
* * *По случаю концерта мать сшила мне новое платье из тафты в черно-белую клетку. Гордая своим нарядом, я спросила ее: