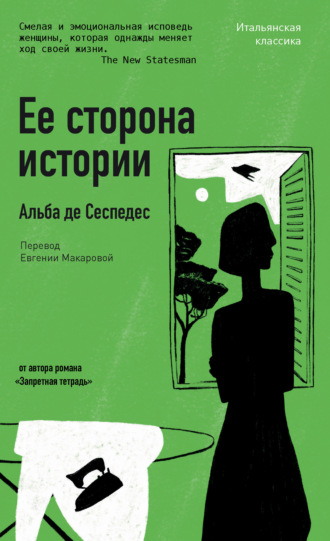
Ее сторона истории
– А твое какого цвета будет, мама?
Она обернулась, на мгновение задумалась, затем сказала:
– Я надену что-то обычное, Алессандра.
Однако позже я застала ее перед открытым шкафом: одно за другим она перебирала все свои платья. Все они были нейтральных цветов: бежевого, серого, два или три были из кремового шелка, украшенные белым кружевным воротничком, – платья, больше подошедшие бы пожилой женщине. Смущенная тем, что ее застали, она взглянула на меня так, словно просила у меня совета. Платья безжизненно висели на вешалках. Я тихо сказала:
– Они похожи на мертвых женщин, мама…
Вздрогнув, мы прижались друг к другу. Потом она неожиданно отстранилась, подошла к комоду и вытащила большую коробку, которую я никогда раньше не видела. Коробка была перевязана старыми веревками: мама одним движением разорвала их. Открыв крышку, мы увидели розовые и голубые вуали, перья, атласные ленты. Я даже не подозревала, что у нее есть такое сокровище, и посмотрела на нее с удивлением, а в ответ она перевела взгляд на портрет своей матери. Я поняла, что это шелка Джульетты и Офелии, и с благоговением прикоснулась к ним.
– Мы что-то сможем из них сделать? – спросила она неуверенно.
Мы абсолютно не разбирались в моде и, глядя на эти метры вуали, совсем растерялись.
– Нужно спросить кого-нибудь, мама.
Тогда она сложила все обратно, взяла меня за руку и, прижимая коробку к себе, направилась к входной двери. Там мы встретили Систу, которая вернулась с рынка.
– Систа, у меня будет новое платье, – сказала мама и, проходя мимо, ласково коснулась ее плеча.
– Платье из вуалей Джульетты и Дездемоны, – добавила я с важным видом.
Под ее изумленным взглядом мы закрыли дверь, поднялись по лестнице и постучали в квартиру Челанти. Я почти тарабанила, требуя, чтобы они поскорее открыли.
Фульвия выбежала в хлопчатобумажном халатике.
– Нужно сшить маме платье из вуали Офелии!.. – воскликнула я, обнимая ее.
Лидия вышла нам навстречу, размахивая руками, пытаясь побыстрее высушить лак на ногтях. Они сразу же, не задавая вопросов, включились в игру.
– В мою комнату, там есть зеркало.
Время шло к полудню, но в комнате еще царил полумрак и беспорядок: рядом с неубранной кроватью на тумбочке горела маленькая лампа. Чулки и нижнее белье валялись на стульях, а туфли были разбросаны по ковру. Тяжелый запах затхлости смешивался с приторным ароматом лака для ногтей.
– Можно? – неуверенно спросила мама.
Но Лидия подтолкнула ее сзади:
– Заходи, заходи, – сказала она, не замечая беспорядка, неубранной постели, разбросанного белья. Она распахнула окно, и в солнечном утреннем свете неряшливость комнаты еще сильнее бросилась в глаза.
Потом она открыла коробку и радостно вскрикнула. Я смеялась, охваченная детским возбуждением, и обнимала мать, которая растерянно улыбалась. Тем временем Фульвия уже сняла халатик и завернулась в шелк, умело превратив его в платье, а Лидия накинула вуаль на голову, как это делают индианки.
С улыбкой моя мать наблюдала за их выдумками, а затем спросила робко:
– Как вы думаете, из этих тканей можно сделать платье для меня?
– Вечернее платье? – уточнила Фульвия.
– О нет, платье… как бы это сказать? Я хочу надеть его на концерт.
– Давай посмотрим, – сказала Лидия. – Раздевайся.
Моя мать на мгновение заколебалась. Она было даже подняла руки и прикрыла свою шею там, где начинался длинный ряд пуговиц. Я никогда не видела ее раздетой, ни разу за все эти годы. Никогда я не видела ее ходящей по дому в сорочке в августовскую жару, как другие женщины нашего дома.
– Раздевайся, – повторила Лидия. – Ты что, стесняешься нас? Мы же все женщины, правда? – сказала она. И Фульвия засмеялась.
Они размахивали тканью и настаивали:
– Ну же, Элеонора, ну.
Моя мать начала раздеваться, открывая тонкую и белую кожу, изящные, худые руки. Лишь легкая выпуклость приподнимала ее корсет на груди.
– Ты похожа на девушку, – сказала Лидия.
– На невесту, – добавила Фульвия. – Мы наряжаем невесту.
Я подбадривала их. Моя мать вся раскраснелась. Счастливые, самозабвенно увлеченные созданием наряда и возбужденные тем, что они преодолевают ее стыдливость и обнажают скрытую грацию, Лидия и Фульвия обернули мою мать в лазурный шелк: ткань перекрещивалась на груди, оставляя открытыми руки.
– Да, безусловно, это, – заключила Фульвия.
– Нужно хорошенько подумать. Выйди, а потом зайди снова, – сказала Лидия.
– Что? – нерешительно переспросила мама.
– Да, войди снова через дверь, покажись.
Моя мать вышла. На мгновение дверной проем опустел. Я слышала каждый глухой удар своего сердца. Я боялась, что она не вернется, навсегда оставив нас с воспоминанием о лазурном платье. Испугавшись, я уже хотела было позвать ее, но тут увидела, как ее рука отодвигает потертую бархатную портьеру, и затем появляется вся она, легкая, с робкой улыбкой на губах. Она была прекрасна.
Не в силах сдержать восхищение, мы с Фульвием зааплодировали.
– Это, – кричали мы, – это!
Лидия тоже присоединилась было к нашим аплодисментам, но вдруг прижала палец к губам, призывая нас замолчать, и спросила серьезно:
– Минуточку. Ты уверена, что ему понравится лазурный?
Потрясенные вопросом, мы с Фульвией застыли в нерешительности, комната погрузилась в тревожную тишину. Моя мать заколебалась, а затем ответила:
– Не знаю.
– Может, он как-то комментировал твои платья…
– Мы никогда не говорили о моих платьях, да у меня и нет цветной одежды.
– И все же это очень важно. Капитан, например, терпеть не может зеленый. У всех мужчин есть цвет, который их раздражает. Мариани, знаешь, та, с первого этажа, говорила мне, что он никогда не позволяет ей одеваться в красное.
Мама села, созерцая красивую лазурную ткань, лежащую у нее на коленях. – Не знаю, – повторила она, – действительно не знаю.
Она не разбиралась в таких вопросах и потому растерялась.
– Ты не замечала, может, он часто носит лазурный галстук?
– Он почти всегда без галстука. На нем белая рубашка с расстегнутым воротом, и рукава закатаны до локтей.
Она прислонилась головой к стене, и ее взгляд устремился к окну, в котором за голыми террасами нашего квартала виднелась зеленая вершина холма Пинчо[11]. Она говорила тихо, руки лежали на коленях, утонув в вуали, а мы слушали ее также внимательно, как слушали моего брата, говорившего через Октавию.
– Занавески в его кабинете белые. Диван тоже светлый, простой. Это большая комната, и он все время живет в ней, как цыгане в фургоне. На стенах высокие, до потолка, полки, полные книг, и картины, на которых изображены ракушки, необыкновенные ракушки Карибского моря; они написаны мексиканским художником. Он рассказывал, что этот художник ныряет под воду, чтобы ловить рыбу. Он ослепляет рыбу светом, и та сама подплывает, бьется о его очки. Еще там есть несколько фотографий: газелей, серн, пум. И фотографии деревьев, обрамленные, как портреты друзей. – Она сделала паузу, затем продолжила: – Нет. Я действительно не могу представить, какой цвет он предпочитает. Возможно, он даже не заметит цвета платья. Не думаю, что платье имеет для него большое значение. И все же…
– И все же?..
– Когда он смотрит на меня, я хочу быть красивой, как женщины, написанные маслом, – она встала, бросилась обнимать Лидию, затем Фульвию, а потом меня, подбежала к зеркалу, остановилась, разглядывая себя. – Сделайте меня красивой, – сказала она, прижимая руки к сердцу. – Сделайте меня красивой.
* * *Я хочу, чтобы было предельно ясно, с какой абсолютной невинностью, с каким чистым сердцем моя мать говорила о Харви.
В тот момент еще не было произнесено ни единого слова любви, которое могло бы сделать их отношения греховными; и я сама, задавая ей постоянные вопросы о нем, укрепляла ее в убеждении, что она не делает ничего плохого: эта дружба понятна даже такой юной девушке, как я, к тому же ее дочери.
Когда она рассказывала мне об их встречах, казалось, что она читает стихи. И я понимала, что ее любовь была именно такой, какой я всегда представляла себе любовь: трепетной, сказочной, пленительной и в то же время неумолимой в своей грозной величественности. Действительно, с ее появлением жизнь моей матери изменилась: она стала гораздо умнее, как будто до этого большинство вещей были скрыты от нее завесой. Вечером, возвращаясь с виллы Пирс, она рассказывала мне о прогулках в парке, о времени, проведенном в музыкальной комнате: моя мать аккомпанировала на фортепиано Харви, игравшему на скрипке.
– А Арлетта? – спрашивала я ее иногда.
Она избегала ответа, а потом призналась, что Арлетта на некоторое время уехала с гувернанткой в Англию к старшей сестре.
Однажды моя мать сказала:
– Каждый раз, когда я захожу в музыкальную комнату, мне кажется, что она идет мне навстречу в своем белом платье, – она закрыла лицо руками. Я гладила ее по волосам, мягко уговаривая не испытывать чувства вины, даже если однажды она и обо мне не будет помнить ничего, кроме моего силуэта на фоне любимого окна.
Эти истории, которые так ясно демонстрируют, насколько Харви занял все ее мысли и стал самой важной частью ее жизни, могли бы показаться жестокими по отношению ко мне, но я понимала, что никогда раньше не любив и не познав жизнь как девушка и женщина, она не могла удовлетвориться только счастьем материнства.
Возможно, я могла бы упрекнуть ее в том, что она позволила мне жить в атмосфере постоянной экзальтации, что прежде всего превратило меня в преданную поклонницу мифа о великой любви, и тем самым, хоть и непреднамеренно, она привела меня к нынешнему мучительному состоянию. Но упрекнуть ее я могла бы только если бы она сама первая не расплатилась за свои честолюбивые мечты. Сейчас я вынуждена писать о ней и выставлять напоказ самые интимные и драматические моменты нашей совместной жизни не потому, что хочу обвинить ее в том, что она сделала меня такой, какая я есть, а чтобы объяснить мои поступки, которые иначе останутся понятными только мне самой.
Мое нынешнее состояние позволяет мне без стеснения и пощады анализировать себя и признаваться в поступках и мыслях, которые в другой ситуации я бы, возможно, не стала раскрывать мужчине. Я считаю, что ни один мужчина не имеет права судить женщину, не зная, из какого отличного от мужчин материала они сделаны. Я считаю несправедливым, например, чтобы суд, состоящий исключительно из мужчин, решал, виновна женщина или нет. Даже если и существует некая общая мораль, которая применима и к мужчинам, и к женщинам и которой принято руководствоваться, – как может мужчина по-настоящему понять все нюансы того, что приводит женщину в восторг или отчаяние и что присуще ей с самого рождения, что является частью ее самой?
Мужчина, возможно, никогда не осознает, что в таком большом доме, как наш, все вращалось вокруг любви; даже мужчины, жившие с нами в одной квартире, не замечали этого. Они считали, что любовь для их женщин была лишь короткой сказкой, легким увлечением, необходимым, чтобы получить право быть хозяйкой в доме, родить детей и затем посвятить всю жизнь походам на рынок и заботам на кухне. Да, они действительно думали, что запахи еды, тяжесть корзины на руке, долгая терпеливая штопка носков и выполнение домашних заданий по арифметике с детьми могут заменить им романтическую любовь, с которой начинались их отношения. Они так мало знали женщин, что верили, будто это и есть истинный смысл и цель их жизни. «Она фригидная женщина, – шептали они друзьям со вздохом. – Заботится только о доме и детях». И давая такие простые объяснения происходящему, они отказывались признавать проблему и брать на себя ответственность. Хотя достаточно было послушать разговоры, которые женщины вели между собой и которые обрывались при появлении мужчин, как у детей при виде родителей; или обратить внимание на книги, лежащие на прикроватной тумбочке в комнате, где они спали, часто вместе с одним или двумя детьми; или заметить, как они с легким вздохом открывали окно после ужина. «Они устали», – говорили мужчины, никогда не вникая в причины этой усталости. В лучшем случае они пренебрежительно думали: «Женщины!»; но никто из них не задавался вопросом, что значит быть женщиной. И никто не догадывался, что каждая жертва, которую женщины приносили, каждый их жест, каждый самоотверженный и героический поступок были проявлением тайного стремления к любви.
Моя влюбленная мать обладала в наших глазах необычайной привилегией. И хотя она ни с кем не была близка, кроме Лидии и Фульвии Челанти, любопытство, которое вызывала большая американская машина, и несколько неосторожных слов, оброненных нашими подругами и медиумом, привели к тому, что все жильцы дома знали о ее романтической истории. Часто, когда я шла мимо, кто-нибудь из них звал меня по имени, делал комплимент и использовал эту возможность, чтобы задать несколько невинных вопросов о маме, а я радовалась, чувствуя вокруг себя тепло возросшей симпатии.
К тому же весна 1939 года была ослепительной или, по крайней мере, казалась такой из-за моего душевного состояния. В моих воспоминаниях небо никогда не бывало таким же синим, а воздух – настолько же мягким. Однако я должна признать, что к сладкому весеннему беспокойству в тот год добавилось смятение, которое вызывал у меня романтический образ Харви. Он перевернул не только жизнь моей матери, но косвенно – и мою, и Челанти. Из-за него мы с Фульвией не находили прежнего удовольствия в общении со знакомыми молодыми людьми и начали обращаться с ними пренебрежительно. И, конечно, Харви стал причиной некоторых разногласий, которые возникали в то время между Лидией и капитаном. Однажды, зайдя в кафе на улице Фабио Массимо, я увидела их сидящими в молчании перед двумя пустыми стаканчиками из-под панна-котты.
Никто никогда не видел виллу Пирс даже издалека, я и сама не могла точно сказать, где она находилась; но, говоря о ней, я постоянно добавляла необычные детали. Я рассказывала о павлинах и белых борзых. Я говорила, что на огромных дубах виллы Пирс растут великолепные орхидеи, которые, как я читала, живут в дикой природе на деревьях Западной Индии. Я доходила до того, что подробно описывала пруд, по которому скользят черные лебеди, а моя мать и Харви катаются на гондоле. Не знаю, верила ли мне Фульвия, но слушать ей нравилось. «Расскажи еще», – просила она меня. Говоря о Харви, я, по сути, говорила о себе. Я приписывала ему свои желания, свои порывы, а его речь я наполняла своими монологами у окна. Так мне казалось, будто это я сопровождаю маму в романтических прогулках, это я сижу с ней у фортепиано. И это ради меня она спускается по лестнице, словно летя.
Потом мы замолкали. Фульвия иногда досадливо хихикала или начинала насмехаться, пытаясь прийти в себя. Этими поздними летними вечерами мы под руку прогуливались по пустынным улицам, погруженным в унылый покой. Мама настоятельно просила нас не переходить мост, который отделял наш квартал от остальной части города: это была у нее своего рода навязчивая идея, как будто таким образом она могла помешать мне вырасти. Фульвия подстрекала меня нарушить обещание, предлагая солгать по возвращении. «Нет, – отвечала я, – мне не нравится обманывать». А она удивлялась моему отвращению ко лжи, принимая его за трусость.
– Но ведь твоя мать никогда не узнает, – успокаивала она меня.
– Дело не в ней, – объяснила я ей однажды. – Дело во мне. Ты думаешь, что я очень хорошая, но это не так. Меня весь день искушает дьявол.
– Ты веришь в дьявола? – спросила она с иронией.
– Да, я верю, что дьявол – это сумма искушений, ловушек, которые мы сами себе постоянно расставляем. Бывают дни, когда у меня почти не остается сил бороться. Если я научусь лгать, я совсем пропаду.
– Что тебя искушает?
На мгновение я замолчала. Мы сидели в саду у замка Сант-Анджело, как два солдата в увольнении: мимо нас проходили люди, пробегали дети, играющие в догонялки. Я опустила взгляд и призналась:
– Всё.
Фульвия повернулась ко мне, удивленная моей откровенностью, а затем снова уставилась в пустоту и, внезапно задумавшись, сказала:
– Это очень сложно, правда? Я чувствую, что могла бы легко стать святой или – с той же легкостью – одной из тех женщин, которым мужчины платят. Может быть, ты не поймешь и не будешь больше уважать меня.
– Я все понимаю, – тихо ответила я. И продолжила после паузы: – Одна единственная вещь помогает мне, помимо неумения лгать, – мужчины, если они подходят слишком близко, вызывают у меня легкое отвращение. На днях в доме Маддалены, когда пришли ребята и мы танцевали, вы думали, что я держусь в стороне, потому что плохо танцую. А на самом деле потому, что я не могу вынести руку незнакомца на моей спине. Она жжется сквозь легкое платье. И даже на следующее утро платье еще хранит сильный запах дыма, запах мужчины, который мне неприятен. Понимаешь?
– Да, понимаю. Я понимаю.
Она на мгновение задумалась, а затем заключила:
– Понимаю, что тебе мужчины нравятся больше, чем мне.
– Почему ты так думаешь? – резко спросила я.
– Потому что так и есть. Мне как будто все равно, когда губы Дарио касаются моих губ: я вытираю их рукой и сразу могу вернуться к танцам и начать флиртовать с другим. Ты же видела, да?
– Да, видела.
– Я не могу понять то, о чем часто читаю в книгах: эту инстинктивную необходимость защититься, которую испытывает женщина, сомнения, которые охватывают ее перед тем, как уступить мужчине или даже просто поцеловать его.
Затем она продолжила:
– В прошлом году я ездила на море, во Фреджене, с Дарио и другими ребятами. Иногда с одним Дарио. Мы брали лодку, отплывали подальше; там мы ныряли, а затем снимали купальные костюмы.
– В воде?
– Да. Мы бросали их в лодку. Это было так чудесно. В прохладной воде волосы липли к моим щекам. Море было зеленым, голубым, мы плавали под водой, касались друг друга, наши белые тела были рыбами в аквариуме. Я была счастлива, как счастливы рыбы, морские водоросли…
Я засмеялась, чтобы скрыть свое смятение:
– А если бы лодка уплыла с вашей одеждой?
– Она стояла на якоре, – объяснила она, пожимая плечами. И продолжила: – Дарио иногда трогал меня. Но это была рука воды, мне было смешно. Я хотела бы чувствовать волнение, понимаешь? Я хотела бы сопротивляться или наслаждаться смелостью своих поступков. Но нет. Нет. Я хотела бы хоть раз почувствовать то, что чувствуешь ты, когда к тебе приближается мужчина.
Мы гуляли по набережной Тибра в Борго[12] под подвижными тенями платанов, под щебетание воробьев, гнездящихся в их ветвях. Они кричали так громко, что заглушали наши слова. В этот час мимо нас, торопясь, шло много священников, врасплох застигнутых наступлением сумерек.
– Перейдем? – спрашивала Фульвия, улыбаясь и слегка подталкивая меня, когда мы проходили мимо мостов.
– Нет, нет, – умоляла я.
– Ты такая невинная, – говорила она умиленно.
Я опускала голову, смущенная тем, что обманываю ее. Я понимала, что моя постоянная сдержанность и вечная борьба с собой служили лишь тому, чтобы сдерживать слишком пылкую натуру. Мое тело защищало меня: худое, сухое, все еще детское. Мужчины проходили мимо, не замечая меня.
– Ты невинна, – продолжала Фульвия. – Поэтому ты привлекла меня с самого первого раза, как я заметила тебя на лестнице. Ты шла с матерью, она держала тебя за руку. Сейчас я наконец поняла, что я чувствую, глядя на тебя: непреодолимое желание взять тебя за руку и ввести в свою жизнь навсегда. Многие мужчины будут просить тебя выйти за них замуж, я это точно знаю. Невозможно владеть тобою всего на час. Ты как твоя мать.
Никто мне никогда раньше не говорил, какая я или как я выгляжу. Благодаря неподдельному интересу, который Фульвия проявляла ко мне, я постепенно обретала форму: я больше не была клубком сомнительных желаний и стремлений, я становилась человеком с проявленной индивидуальностью. До этого момента я думала, что у других нет никакого мнения обо мне. Поэтому, слушая Фульвию, я словно впервые смотрела на себя в зеркало. Я прижималась к ее руке, к ее нежной коже, к ее теплу.
– Там внутри – Антонио, – сказала я, проходя мимо большого здания.
Мы облокотились на ограду набережной, глядя на зарешеченные окна и надпись на фасаде: «Следственный изолятор».
– Нет, он теперь на острове, – тихо сказала Фульвия.
– Но что же он сделал? – спросила я нетерпеливо.
– Неизвестно.
Ответ был всегда один и тот же. Об Антонио теперь говорили очень мало, и я пришла к выводу, что действительно никто ничего не знал. Отца мои постоянные вопросы раздражали, он запретил мне вмешиваться в эти дела. Аида сказала, что брата обвинили в печати каких-то листовок. «Что в них было написано?» – сразу спросила я. И Аида тоже ответила: «Неизвестно».
Я смотрела на окна тюрьмы и мысленно звала Антонио – так настойчиво, что мне вдруг показалось, будто я вижу его лицо за решеткой. В его отчаянном взгляде читался весь тот ужас, который другие выражали одним этим словом: «Неизвестно». Я вспоминала, как Аида сказала в первый день: Антонио и его друзья были недовольны. С тех пор осознание их мучений постоянно напоминало мне о себе.
В серых сумерках мимо нас проходило множество людей, они шли между нами и тюрьмой: разговаривали, читали газеты, смеялись, две женщины ехали в карете, и одна из них пудрила нос. Мне казалось, что они совершают все эти действия с нарочитым усердием, чтобы отвлечься от своих мыслей. Их день, так же как и мой, был полон суеты и череды беспрерывных дел, которые непрерывно сменяли друг друга с единственной целью – избежать самоанализа. Возможно, если бы они могли заглянуть в себя, каждый из них обнаружил бы, что недоволен.
– Это ужасно, – прошептала я.
– Да, – согласилась Фульвия, – ужасно быть запертым там внутри, когда на улице такая прекрасная весна.
Она с интересом смотрела вокруг. Нежный свет заходящего солнца окрашивал в розовые тона крыши домов и пышные кроны деревьев на Джаниколо, за тюрьмой.
– Там наверху вилла Пирс, да? – спросила она.
Я кивнула.
– Ее отсюда не видно?
– Нет, – резко ответила я. – Ее ниоткуда не видно. Она скрыта деревьями, ее невозможно разглядеть.
Мы молча продолжили прогулку.
– Знаешь, – вдруг сказала она, – иногда мне кажется, что виллы Пирс не существует, и Харви тоже.
– Почему?
– Не знаю, просто ощущение. Помню, я читала историю о путнике, который шел ночью через лес. Он был голоден, изможден холодом и усталостью и совсем отчаялся. Вдруг вдалеке он увидел свет, это был какой-то дом. Он вошел внутрь и нашел там приют, смог погреться у большого огня. Его встретили элегантный старик и пожилая дама, которые обращались с ним с такой вежливостью и заботой, каких он никогда прежде не знал. Они уложили его в постель, поправили одеяло, и он заснул самым сладким сном в своей жизни. Но утром он проснулся на земле у опушки леса, рядом с дорогой. Дом и старики исчезли.
– О! – воскликнула я. – Кто же они были?
– Его родители, которых он потерял в детстве. Как будто они были живы и состарились вдали от него. Красивая история, правда?
– Да, но ты говорила…
– Точно. У меня такое же ощущение от виллы Пирс. Мне кажется, что в Харви, и в Элеоноре тоже, есть что-то призрачное. Как и ты, я тоже иногда боюсь, что она может исчезнуть, не вернуться.
– Замолчи, – сказала я, вздрогнув.
Мы дошли до сети ровных улиц, ведущих к нашему дому, под руку, прижавшись друг к дружке, стараясь защититься от внезапно спустившегося холода, и в руках я несла жизнь моей матери, как несут красивый воздушный шар, свободно парящий в небе и связанный с нами одной лишь тонкой нитью.
* * *В день концерта мы с отцом обедали вдвоем. Маму пригласили на завтрак на виллу Пирс. Мы в первый раз ели наедине, лицом к лицу. Потом мы так будем есть многие годы. Помню, тогда это показалось мне зловещим предзнаменованием, но из-за инстинктивной солидарности с мамой я решила притвориться, что чувствую себя совершенно спокойно. Я все еще была взволнована тем, с каким энтузиазмом помогала матери надеть голубое платье. Мне казалось, оно вышло действительно элегантным: Лидия настояла, чтобы его сшила хорошая портниха, и Систе пришлось совершить свой первый визит в ломбард Монте ди Пьета[13], чтобы заложить золотую брошь бабушки. Моя мать в голубом платье была прекрасна. Шелк, волнами ниспадая на ее грудь и бедра, смягчал худобу, а цвет гармонировал с глазами. Когда я увидела ее в наших комнатах, где обычно она появлялась в своих привычных темных одеждах, я невольно прикрыла рот рукой, чтобы заглушить восторженный возглас.
Она шла к нам, слегка расправляя платье, и была похожа на девушку перед первым балом. В ее походке была такая легкость, что я подумала – она так же просто может уйти насовсем, и это даже не покажется чем-то серьезным. Я посмотрела на нее долгим взглядом, полным глубокой любви, помахала ей на прощание и разрыдалась. Я прижалась к Систе, уткнувшись в изгиб ее плеча, вдохнула привычный резкий запах кухни и ее черного платья.