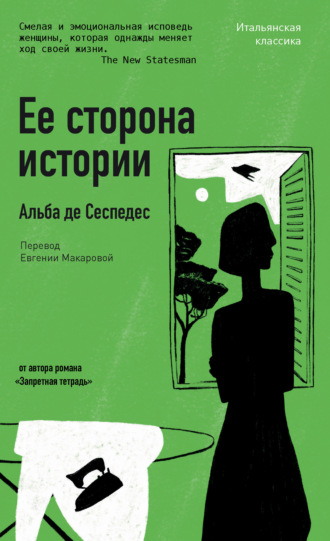
Ее сторона истории
Моя мать остановилась в замешательстве:
– Почему вы плачете? Санди, почему ты плачешь? Что я сделала, боже мой?
Мы не знали, как объяснить: каждый раз, когда мы ждали ее, сидя на кухне, нас с Систой охватывал потаенный страх, что мы ее больше не увидим, и каждая минута, отмеряемая большими стрелками часов, усиливала это чувство. Она не понимала, что ее присутствие было единственным счастьем нашей жизни. Мы улыбнулись, глядя на нее сквозь слезы. И тогда она тоже улыбнулась и обняла нас, растроганная тем, как искренне мы разделяли ее радость.
– Мне немного страшно, – сказала она, задержавшись у двери, а затем добавила: – Очень страшно.
Но вскоре она преодолела себя и стала быстро спускаться по лестнице, время от времени оглядываясь.
– До свидания! – кричала она, выглядывая из-за перил и посылая нам поцелуи, и убогая лестница озарялась ее улыбкой.
* * *За нами машина вернулась позже. Я была давно готова, и как только раздался сигнал клаксона, мое сердце беспорядочно заколотилось. Отец сказал: «Минуточку», – и сделал вид, что дочитывает важную новость. Мы медленно спустились по лестнице, я шла за ним в облаке противного запаха бриолина.
В машине мы сидели на расстоянии, не шевелясь. Отец изображал безразличие и даже скуку, но я знала, что он гордился тем, что его на дорогой машине везет шофер в ливрее. Я представляла, как мама каждый день проделывает этот путь на виллу Пирс и по дороге ее обыденная жизнь спадает с нее, словно старая накидка: позади остается наша улица, наш большой дом, темные комнаты, отец, Лидия, Систа – все это осыпается и бесшумно оседает пеплом. И, выезжая на широкий, тенистый проспект Джаниколо, возможно, она забывает даже обо мне.
Ворота были открыты, машина заехала внутрь, давя гравий с шумом, похожим на плеск воды под веслами. В холле Виолетта Пирс, с седыми волосами, отливавшими фиолетовым, встречала гостей. Нас она приняла с таким энтузиазмом, словно ждала только нашего приезда.
– Ты тоже играешь на фортепиано? – спросила она меня непринужденно.
Смущенные, мы с отцом сели в глубине зала. На стульях лежали маленькие программки, объявлявшие о «Концерте пианистки Элеоноры Кортеджани». Пианистка Элеонора Кортеджани – моя мама. Это была фамилия моего отца, и так меня звали в школе, и все же мне казалось, что мама не принадлежала к нашей семье, а носила это имя лишь по случайному совпадению. Я оглядывалась вокруг и не узнавала музыкальный зал, который она описывала.
Многие говорили по-английски, и мы чувствовали себя неловко, как люди, которые оказались одни в чужой стране, не зная языка и обычаев. Я поискала взглядом Харви и сразу поняла, что его нет. Чтобы почувствовать себя более уверенно, я стала пристально смотреть на фортепиано, за которым скоро должна была увидеть дорогую фигуру моей матери.
Этот рояль, очень длинный, блестящий, совсем не походил на старое пианино, которое стояло у нас дома. Отец смотрел на него с неприязнью, и в тот момент я не могла не разделять с ним этот дискомфорт: наш дом, Систа, сидящая на кухне, голоса, доносящиеся со двора, пыльные и темные лестницы – все это казалось мне более подходящим нам, даже более уютным. «Пойдем, – уже хотела сказать я папе. – Вернемся домой». Но тут увидела, как слуги в ливрее закрывают двери, миссис Пирс поднимает руки, прося тишины, а из маленькой боковой двери появляется моя мать.
Легкой походкой она подошла к фортепиано. Затем остановилась, положила руку на пюпитр, и в этот момент зал взорвался аплодисментами. Это была не просто дань уважения, а выражение чувства, которое ее присутствие вызывало у людей.
Она была очень бледна, и платье, сшитое из вуали Офелии, которое в стенах нашего дома казалось таким прекрасным, здесь выглядело старомодным.
– Слишком она худая, твоя мать, – сказал папа. – Я заставлю ее пройти курс восстановительного лечения.
Я повернулась и посмотрела на него: этой фразой он хотел показать, что не замечает, насколько его жена – необыкновенная женщина; ему нравилось демонстрировать свое право судить ее и заставлять уважать его мнение. Мне хотелось ответить ему резко, с иронией, но в этот момент моя мать начала играть прелюдию и фугу Баха.
Это и другие произведения, которые последовали за ним, я слышала бесчисленное количество раз, но здесь они звучали иначе. Возможно, потому, что она была скрыта пюпитром, мне казалось, что это не моя мать исполняет их. Игра была сильной и смелой, совсем не похожей на ту, которую мы привыкли слышать от женщины, говорившей тихим, покорным голосом, смиренно соглашаясь с указаниями мужа.
После каждого произведения зал сразу же взрывался аплодисментами. Моя мать не вставала, чтобы поклониться, а, наоборот, опускала голову, показывая свою растерянность. Во время этих пауз Виолетта Пирс скользила между гостями и, улыбаясь и глядя на сцену, наверняка, шептала им что-то лестное о моей матери. Она подошла и к нам, ненадолго остановившись, чтобы сказать: «Isn’t she wonderful? Не правда ли, она восхитительна?» Она, конечно, уже не помнила, кто мы такие.
Затем она остановилась у кресла в первых рядах и начала быстро говорить по-английски. И хотя я не понимала ни слова, по выражению ее лица я догадалась, что она обращается к Харви, и почувствовала внезапное волнение. Было понятно, что она пытается его в чем-то убедить. Наконец моя мать, которая все это время сидела, опустив взгляд на клавиатуру, подняла голову и взглянула на него, будто приглашая. И Харви сразу поднялся на сцену.
Моя мать никогда не описывала его мне подробно, я знала только, что он очень высокий и светловолосый. Однако с первой секунды его образ совпал с тем, как я его себе представляла. Он взял скрипку и, не обращая внимания на публику, повернулся к моей матери и начал настраивать инструмент, готовясь играть. Я не видела его лица, но чувствовала, что между нами, как между растениями одного семейства, есть отдаленное сходство. Может быть, из-за его стройной фигуры или из-за склоненной над скрипкой головы, отчего его затылок напоминал своим силуэтом голову лошади, мне казалось, что в нем воплотилось все, что мне нравилось – не только в мужчине, но и в жизни: красивые животные, красивые деревья.
Он начал играть. Я не знала это произведение: мелодия строилась вокруг пасторальной темы, той самой, которую моя мать называла его любимой. Фортепиано, вместо того чтобы просто аккомпанировать, реагировало на каждую фразу: скрипка спрашивала, фортепиано смиренно отвечало, это был безмятежный разговор. Постепенно музыка набирала силу, становилась энергичнее, вопросы скрипки казались все настойчивее, все напряженнее. Финальные такты звучали так, будто фортепиано хочет убежать, а скрипка преследует его.
Когда музыка стихла, у всех замерло сердце, словно мы бежали и остановились вместе с мелодией. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем публика пришла в себя и начала аплодировать. Отец молчал и казался совсем бледным в своем темном костюме.
Я хлопала в ладоши, и меня переполняла такая радость, что я с трудом сдерживалась, чтобы не кричать. Публика аплодировала неистово. Виолетта Пирс поднялась на сцену, чтобы поздравить исполнителей. Это был финал концерта: моя мать, покраснев, встала из-за фортепиано и хотела уйти, но Харви удержал ее за руку. Они посмотрели друг на друга и потом улыбнулись, смущенные тем, что проявили чувство, которое до сих пор скрывали сами от себя. И с этой улыбкой они повернулись к нам.
Растроганная, я перестала аплодировать: я смотрела на них, погруженная в свои мысли, позволяя слезам переполнять глаза. Я была так горда и тронута, как будто это я была ее мамой, а она – моей дочерью. Сквозь дрожащую пелену слез я видела, как моя мать и Харви, держась за руки, отрываются от земли и поднимаются ввысь, паря на голубом платье, как на облаке. Из-за слез я не могла разглядеть их черты, и мне казалось, что они одного пола: не мужчины, не женщины, но ангелы. Они оба были высокими и, возможно из-за цвета волос, казались братом и сестрой. Эта мысль на мгновение пронзила мой ум, оставив меня растерянной и удивленной. У меня не получалось объяснить эту их таинственную схожесть, эту гармонию, которая исходила от них. Оторвавшись от земли, они дрожали в мерцающей влаге моих глаз, и моя мать улыбалась – как тогда, на лестнице, когда она обернулась, чтобы попрощаться, прежде чем исчезнуть.
Наконец по просьбе публики она снова села за фортепиано и заиграла ту самую «Весну», которую исполняла вечером, когда объявила нам о концерте. И снова мы услышали ее смех в музыке. Многие встали. Отец сказал: «Пойдем», – и взял меня под руку.
Мы шли сквозь большие пустые залы, преследуемые праздничными трелями и арпеджио. На улице еще был день, но большие деревья уже укутались тенью, как плащом. Музыка из окон догоняла нас, подталкивала сзади. Мы ускорили шаг, желая поскорее уйти; за воротами фортепиано уже не было слышно.
Мой отец опирался на мою руку, всем телом полагался на меня. Позже, когда он ослепнет и я стану водить его на прогулки, я буду узнавать этот способ опираться, который появился у него в тот вечер. Его лицо внезапно постарело, осунулось, как это часто бывает в моменты усталости с лицами, долго сохраняющими молодые черты. Он не сделал ни единого замечания о концерте и больше не осмеливался повторять, что моя мать слишком худа. Неспособный выразить свои чувства иначе как через немедленные физические реакции, он буквально распадался на части, всей тяжестью повисая на моей руке, едва волоча ноги. И вместо того чтобы испытывать жалость к нему, к его жизни, клонившейся к закату, тогда как моя, казалось мне, лишь набирала силу, я – должна признаться – радовалась его беспомощности. Я чувствовала, что только мама и я обладали секретом вечной молодости: сегодня или через много лет одни и те же вещи будут вызывать у нас восторг, мы преодолеем само время и даже физическое увядание, просто доверившись тем радостям, что были неведомы отцу. Его тело, повисшее на моей руке, казалось мне воплощением всего бренного в нашей жизни: плоти, которая стареет и однажды истлеет. Меня охватывало почти физическое отвращение, омерзение – такое же, как когда Эней прижимал меня к стене, заставляя познать его тело. Мама была единственным мостом, связывающим отца с поэтической правдой жизни. Годами она оставалась рядом, приглашая его следовать за собой. Теперь она ушла, и он остался один.
Медленно я вела его домой по узким улочкам Борго[14]. Навстречу нам летели, обнимали нас знакомые голоса и запахи улиц. Это был наш квартал, наши люди – место, куда моя мать как будто попала по ошибке.
Я смотрела на отца, который, сам того не сознавая, доверился девушке, чьи мысли и привычки так часто высмеивал. В ноздри мне ударил запах бриолина – и я снова увидела его за столом, с развернутой газетой, с золотым кольцом на пальце, наблюдающего за нами и иронично покачивающего головой.
И тогда, внезапно растроганная этим воспоминанием, я сказала: «Идем, идем, папа», – помогая ему перейти улицу.
Едва мы вошли, отец спросил Систу, готов ли ужин, и, хотя было еще рано, приказал подавать. Систа не осмелилась перечить: поставила супницу в центр стола и застыла, сложив руки на черном фартуке, уставившись на мамино пустое место. У мамы была привычка складывать салфетку в форме кролика, и сейчас этот кролик растрогал меня не меньше, чем игрушки Алессандро, которые она бережно хранила в шкатулке. За окном сгущались наши любимые сумеречные тени, которые мы иногда ждали вместе. Теперь я была одна. Я ловила себя на том, что повторяю ее жесты: накладывая Систе еду и подавая тарелку, я говорила те же слова с той же нежной интонацией.
Услышав тон моего голоса, папа поднял глаза от тарелки и взглянул на меня. Он понял, что перед ним уже не ребенок, а женщина, – и, заметив мое сходство с матерью в чертах и движениях, тут же признал во мне противницу. Систа, примостившись в углу, жевала хлеб. Между нами повисло молчание – ледяная пустыня, куда никто не решался ступить. Но вскоре на лестнице раздались торопливые шаги. Я, просияв, вскочила, бросилась к двери и распахнула ее.
Скажу, что даже сейчас, спустя столько лет, когда я возвращаюсь мысленно к моей матери, чаще всего я вижу ее именно такой, какой она была в тот миг: с прижатым к груди огромным букетом роз, с выбивающимися из-под пальто краями голубого платья, словно она уже не могла втиснуться в свою обычную скромную оболочку. Ее волосы слегка растрепались, лицо порозовело, став невероятно привлекательным. Она прислонилась к стене, будто спасаясь от внезапного головокружения.
– О Санди… – прошептала она, и мне показалось, что никогда еще мое имя не звучало из ее уст с такой нежностью. – О Санди… – повторила она, прикрыв глаза.
Она была прекрасна. Мне хотелось, чтобы она прилегла на мою кровать в этом платье, напоминавшем костюм Офелии, и рассказала историю своего дня, как когда-то рассказывала мне шекспировские сюжеты в детстве.
Внезапно нашу счастливую близость разрушил отцовский голос, донесшийся из столовой. Это был голос с огромными руками и густой черной шерстью – точь-в-точь как у сказочных людоедов.
– Элеонора! – позвал он и, не получив ответа, повторил резче: – Элеонора!
Он появился в дверях, и моя мать, ничуть не смутившись, встретила его улыбкой. Она была так счастлива, и ей казалось, что хотя бы сегодня он разделит ее радость. Я чувствовала, как ей хотелось подойти к нему, рассказать о Харви, чтобы он слушал и радовался вместе с ней. Мне не стыдно признать: это казалось мне естественным, ведь я не видела связи между узами, скреплявшими их, и чувствами, связывающими ее с Харви.
– Идем, – приказал он, направляясь в коридор.
Смущенная, моя мать последовала за ним. В своем коротком пальто, едва прикрывавшем платье, она выглядела юной, как девушка, вернувшаяся с тайного бала.
Переступая порог комнаты, она уронила розы. Я подхватила их, уколов ладони шипами. Даже не взглянув на меня, она закрыла за собой серую дверь.
Я села на красный плиточный пол, прижав ухо к щели в двери. Систа попыталась оттащить меня, но потом присела рядом. Сначала было тихо. Затем раздался отцовский голос, полный неожиданной для него ярости:
– Это был последний раз, когда ты ездила на виллу Пирс.
Мы поняли, что он схватил ее за руку – мама тихо вскрикнула от боли. Она отвечала шепотом, слов нельзя было разобрать. Он говорил так же тихо – казалось, оба стыдились собственных слов. Эта схватка пугала меня не меньше, чем тишина, что воцарялась между ними в вечера любовного согласия. Мысленно я возвращалась в те часы, когда впервые ощутила горечь одиночества ребенка перед лицом странной родительской близости. Я осознала, насколько ужасно то, что происходит между мужчиной и женщиной наедине. Вспоминала объяснения Фульвии, как рождаются дети. Это был не светлый, радостный акт творения жизни, а нечто требующее темноты и покрова ночи. Во враждебных голосах за дверью проявлялось все ничтожество интимности между мужчиной и женщиной. Даже их способ любить – насколько я понимала – казался мне отвратительным и вульгарным, как эта борьба, свидетелем которой я стала.
– Я запру тебя здесь, – говорил он. – Здесь, понимаешь? Здесь.
В ужасе я сжала руку Систы, представляя мою мать запертой в комнате с массивной железной кроватью (на которой умерла тетя Катерина) и черным комодом с мраморной столешницей. Ее хрупкое тело, раздавленное этой мрачной мебелью.
– Прошу, Ариберто, пожалуйста… – молила она жалобным, надтреснутым голосом. – Умоляю тебя… умоляю…
Казалось, она стоит на коленях – она, такая гордая и легкая! – уничтожая себя перед тем самым человеком, которого я только что жалостливо вела домой, поддерживая под руку.
Я в ужасе обернулась к Систе:
– Надо спасти ее… сделать что-то… спасти.
Систа не ответила. В тусклом свете коридорной лампы ее тень, худая и плоская, опиралась о дверной косяк. Ее лицо было серым, неподвижным. Я часто видела, как она тревожилась, когда мама задерживалась, но сейчас, в критический момент, ее лицо оставалось бесстрастным.
– Надо спасти ее, – повторила я.
Она продолжала молчать. Наконец, когда я несколько раз подергала ее за рукав, спрашивая: «Что мы можем сделать? Ну скажи же!», она, не меняя выражения лица, произнесла:
– Что ты можешь сделать? Он ее муж.
* * *После того страшного вечера наша жизнь внешне вернулась в прежнее русло. Мои родители даже не подозревали, что я слышала их разговор, и потому продолжали обращаться друг с другом так же, как до концерта.
Но для меня все изменилось. Теперь я знала, что происходит за дверью их спальни, и их любезные интонации казались мне невыносимым лицемерием. Впрочем, с того дня моя мать перестала рассказывать мне о своих визитах на виллу Пирс, а я перестала допытываться – мы обе понимали причины этого молчания. Многие события, о которых я расскажу дальше (и которые происходили в мое отсутствие или вне нашего дома), стали мне известны лишь после ее смерти – из рассказов Лидии и записной книжки, найденной в пианино, куда мама записывала свои мысли. Поэтому мне было довольно легко восстановить факты.
Через несколько дней после концерта Харви объяснился ей в любви. Это случилось 21 мая: дата в книжке была подчеркнута дважды, а вся страница испещрена его размашистым почерком: «Я люблю тебя, Элеонора».
Далее шли романтические пометки: «вилла Челимонтана», «миндаль на Палатине», «вилла Адриана», «ирисы на Аппиевой дороге». Засушенный лепесток ириса, лежавший между страницами, я позже носила в медальоне бабушки Эдит – единственной драгоценности, оставшейся от матери.
Она почти забросила учеников и, как я узнала позже, с момента знакомства с Харви отказалась от денег семьи Пирс. Но в конце каждого месяца по-прежнему вручала отцу конверт – плату за свою дневную свободу. «Вот деньги, Ариберто», – говорила она с легким презрением. Систа часто наведывалась в Монте ди Пьета, а когда после смерти матери отец вскрыл ее ящики, в красном сафьяновом футляре, кроме медальона, нашел лишь пачку закладных, скрепленных булавкой.
* * *В конце июня мама наконец поговорила со мной откровенно.
Был жаркий субботний день. Отец, одетый во все белое, с голубым галстуком, завязанным бантом, куда-то ушел. Я сидела у окна с книгой, и моя мать сидела рядом в кресле. Недавно она разрешила мне читать романы и даже составила нечто вроде идеальной программы.
В тот день я читала «Мадам Бовари», потрепанный экземпляр с пометками на полях. Эти подчеркивания, выдававшие ее сокровенные мысли, смущали меня: словно я подсмотрела нечто интимное. К тому же Эмма мне не нравилась, и я не хотела находить в ней сходства с матерью – как не хотела знать, почему та вышла за отца.
Я была погружена в эти мысли, когда мама сказала:
– Сегодня я никуда не пойду, Санди. Мне нужно с тобой поговорить.
Я с готовностью повернулась к ней:
– Мы останемся здесь, у окна?
– Да, конечно, – ответила она, улыбаясь.
Я охотно подвинула кресло к ее креслу. Я даже не спросила, что она мне хочет рассказать, хотя меня удивила серьезность ее тона. Мне было хорошо просто сидеть рядом, чувствовать, как она смотрит на меня. Счастье разливалось во мне тихой рекой – так же, как в первые встречи с Франческо.
– Санди, – спросила она, глядя в окно, – тебе хотелось бы уехать?
У меня перехватило горло. Я испугалась, что она хочет отправить меня одну и пытается увлечь меня мыслью о путешествии.
– С тобой? – прошептала я.
– Конечно, со мной.
– О да, мама, да! – воскликнула я и добавила шепотом, словно подталкивая ее к рискованному поступку: – Поехали. Уедем.
Она не пошевелилась и не сразу ответила. Ее глаза отражали небо за окном.
– Уедем, – повторила она наконец, и по ее тону я поняла, что эти слова стали ее навязчивой мыслью, звучавшей в голове и ночью, и днем, стоявшей за каждым ее словом, каждым действием. – Уедем.
Тщетно она трясла головой, пытаясь отогнать ее: она была рядом, со всех сторон, везде, жужжала, обволакивала, висела в воздухе, которым она дышала: «Уедем».
Наверное, она испытала облегчение – произнеся это наконец вслух; это было похоже на освобождение, на принятие.
– Мы поедем за границу. В Швейцарию, может быть.
Она будто придумывала игру, как в моем детстве, когда мы «путешествовали» по городам, где гастролировала бабушка.
– Мы поселимся в деревне, вдали от города, больших домов, шумных улиц и трамваев, которые ходят всю ночь. За порогом – сразу трава. У меня будет рояль – целая комната для рояля…
Я подхватила ее фантазию. Мне нравилось добавлять в картину нашего будущего все желания, которые до сих пор я не надеялась осуществить:
– Я пойду гулять и буду возвращаться домой через лес, идя на звуки твоего рояля, будто следуя за путеводной звездой.
– Зимой все занесет снегом, – продолжала она, – а мы будем сидеть у камина с книгами.
Ее тихий голос рисовал целые картины в моем воображении, и я могла смотреть их, как спектакль. Злорадствуя, я представила папу, вернувшегося вечером в пустой дом. Он кричит: «Я голоден!», «Где ужин?», «Элеонора!», «Алессандра!» – но его слова тонут в тишине. Он распахивает двери комнат, и мрачная мебель, годами давившая мою мать, теперь душит и угнетает его самого.
– Санди…
– Мама…
Наступило молчание, затем она повернулась и серьезно посмотрела на меня, пытаясь вернуть меня из мира фантазий:
– Мы поедем не одни.
– О мама, я и не думала, что мы поедем без него, – улыбнулась я.
Она сжала мою руку так крепко, словно пыталась погрузить меня в свой внутренний мир:
– Это очень серьезно.
– Ты не можешь здесь жить, – живо возразила я. – Ты должна…
– Это очень серьезно, – повторила она, перебивая меня. – Ты должна понять. Мать не должна говорить такое дочери… Но вообще (и, возможно, в этом моя вина), я никогда не думала о тебе как о ребенке. С самого рождения я обращалась с тобой как с взрослой, день за днем поддерживая и утешая тебя, – я, которая уже знала, как трудно быть женщиной. Потому что у женщины, в сущности, нет настоящего детства. Она становится женщиной с первых лет жизни, едва научившись говорить. Возможно, я ошиблась. Боюсь, я совершила ошибку, ведь в результате ты выросла такой же слабой и беззащитной, как я. Когда ты была совсем маленькой, мне нравилось воображать, что ты мальчик, как Алессандро… А потом… потом однажды я увидела тебя здесь, у окна. Ты была совсем ребенком, и я спросила, не скучно ли тебе одной. «Нет, – ответила ты, – мне очень хорошо». И тогда я вспомнила окно в Беллуно, у которого подолгу сидела в детстве. Я знала цену раннего одиночества. Я знала, что тебе предстоит страдать, что многое ранит тебя, но многое другое… о, оно вознесет тебя. Потому что в тебе, как в каждой женщине, есть возможность стать существом необыкновенным, прекрасным, воплощением гармонии – как красивое дерево или звезда. Женщина, Санди, – это целая вселенная, в ее лоне заключен весь мир, солнце и времена года, всеобъемлющее небо, все поля и города…
Она замолчала, затем спохватилась:
– Не знаю, как мы заговорили об этом… С чего я начала? Мысли путаются…
– Ты говорила, что мы скоро уедем, – подсказала я.
Моя мать резко встала. Я видела, как она мечется по комнате, не в силах совладать с нетерпением: ломает руки, оглядывает стены и мебель – свидетелей ее однообразной жизни. «Прочь… прочь…» – бормотала она, чувствуя, что наконец вырвется из ловушки, которую ей годами расставляли эти комнаты, подобно зыбучим пескам. «Прочь… прочь…» Она распахнула дверь в гостиную, и оттуда хлынул затхлый запах, который так и не выветрился из привезенных из Абруццо кресел. «Прочь!» – крикнула она, словно бросая оскорбление в черную пустоту комнаты. Затем начала кружиться, легкая и воздушная: «Прочь, – говорила она своим певучим голосом. – Прочь…»
Вдруг она резко остановилась:
– А Систа?
Помедлив мгновение, она решительно сказала:
– Быстро, позови ее.
Я нашла Систу в кухне за штопаньем.
– Идем, – прошептала я, беря ее за руку. – Идем, идем!
Мать быстро подошла к ней:
– Послушай, – сказала она. – Мы уезжаем. И ты поедешь с нами.
– Куда? – удивилась та.
– Какая разница? Поедешь с нами.
– Это чудесное место, – добавила я. – Там деревья, коровы, луга. Увидишь. Мы уезжаем. Понимаешь? Мы втроем… Уезжаем, уезжаем, уезжаем.
Охмелевшая от счастья, мама снова закружилась по комнате, размахивая руками в мягком жесте прощания. Затем подошла к нам и обняла.
– О мои дорогие, – шептала она, – мои дорогие, мои…
И затем она призналась, что уедем мы очень скоро.
Прошло около двух недель, а мать больше не упоминала о наших планах побега. Однако я замечала, что, уходя, она обнимала меня особенно нежно и говорила: «Я скоро вернусь, дорогая», – таким ласковым и взволнованным тоном, будто хотела сказать: «Потерпи еще немного».
Это тайное ожидание держало меня в постоянном возбуждении, которое я с трудом скрывала. Я боялась, что кто-то заметит мою необычную болтливость и непривычную живость движений, но хорошая погода, длинные летние дни и каникулы подарили всем жителям нашего дома приподнятое настроение. Во дворе зацвели растения, белье на веревках весело взлетало при порывах ветра, словно приветствуя нас. Из открытых окон парусами развевались занавески. Зимнюю одежду с презрением встряхнули и убрали в сундуки. Женщины, воодушевленные новыми платьями, говорили громче и держались увереннее. Серый дом наполнился радостными звуками, а по вечерам как будто дышал через распахнутые окна. Сапожник стучал молотком бодрее и быстрее, а консьержка сидела блаженно у входа, окруженная играющими вокруг девочками с вишенками вместо сережек.