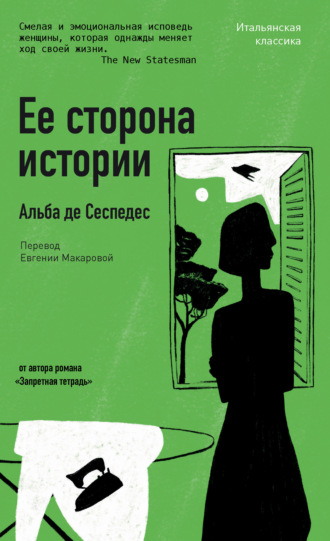
Ее сторона истории
Я часто ходила гулять с Фульвией, и наши шаги сливались в стремительном молодом ритме. Мы без умолку болтали, шептались, смеялись без причины или по пустякам. Летом наш квартал наполнялся криками ласточек: ни один район Рима не был знаком с их голосами так хорошо, как Прати. Рано утром они носились в высоком праздничном полете, призывая нас присоединиться к ним в голубеющем, затянутом дымкой небе. К вечеру же снижались, скользили у окон и отчаянно кричали, пытаясь избежать коварно надвигающейся ночи. А с наступлением сумерек внезапно смолкали, как оркестр по знаку дирижера. Мы с Фульвией тогда спешили обратно к нашему дому, где многие семьи уже ужинали в полумраке, экономя свет.
Часто с нами гулял Дарио. Мы никогда не назначали ему точного времени. «Выйдешь?» – спрашивал он Фульвию из своего окна напротив. Она кивала, и вскоре мы встречали его где-нибудь на нашем пути – каждый раз в новом месте. Он ждал, куря на тротуаре, и следил за нашим приближением медленным, безразличным взглядом. «Привет», – говорила Фульвия. И он присоединялся к нам.
Это был худой парень с заостренным лисьим подбородком. Черты его были заурядны, но голубые, необычайно глубокие глаза облагораживали его широкое лицо. Он шел молча, нервным жестом поправляя непослушные прямые волосы. Его молчание раздражало Фульвию, ожидавшую веселого времяпрепровождения. Она начинала говорить на самые разные темы, пытаясь заинтересовать юношу, но чаще безрезультатно. Поначалу я не понимала, что она в нем нашла, но позже и мне стало казаться, что его угрюмое молчание предпочтительнее пустого бахвальства других наших сверстников. Те старались казаться оригинальными, притворяясь, будто обладают яркой индивидуальностью, а на деле поразительно походили друг на друга: одевались одинаково, использовали один и тот же сленг, как солдаты или моряки. Мне было трудно привыкнуть к этому искусственному языку, которым Фульвия, напротив, владела в совершенстве. «Кем вы станете, когда вырастете?» – иногда спрашивала я кого-нибудь из них. На что всегда следовал ироничный ответ, ставящий меня в неловкое положение, как когда-то в школе, где меня дразнили за хорошие оценки. «Мы все подохнем, – сказал мне как-то один. – И ты тоже, со своими девятками по латыни».
– Вы девочки, вам не понять, – говорил Дарио, бросая на нас теплый взгляд, нарушавший апатичную холодность его лица. – С вами трудно говорить на такие темы.
– Почему? – спрашивала я, обиженная этой разницей между нами, которую он подчеркивал.
– Да разве он сам знает? – вступала Фульвия. – Разве он знает почему?
Все они казались потерянными и печально-одинокими, но вместо того, чтобы жаловаться, демонстрировали полную самодостаточность, утверждая, что не нуждаются ни в чьей-либо поддержке, ни даже в дружбе и любви. Они притворялись беспощадными циниками, выставляя напоказ ненужную, наигранную жестокость. Однажды один из них похвастался, что ощипал живого щегла, которого его сестра держала в клетке. Остальные засмеялись, включая Фульвию и добродушную толстуху Маддалену. Я содрогнулась от этой глупой жестокости.
– И зачем ты это сделал? – горячо спросила я. – Тебе не стыдно? Ты отвратителен.
Остальные продолжали идти, смеясь, но я чувствовала их смущение: они отстали, оставив нас одних.
Клаудио (так звали парня) попытался слабо улыбнуться.
– Как ты мог? – настаивала я.
Он помрачнел. Друзья уже нас не слышали. Мы шли по широкой аллее Монте-Марио, и вокруг пели птицы.
– А что мне оставалось? – наконец раздраженно ответил он. Я чувствовала, что он хотел выплеснуть гнев и какое-то скрытое бессилие. – Я такой подлец, что срываюсь на тех, кто слабее меня.
– Что случилось? – ласково спросила я. – В чем дело?
Он удивленно посмотрел на меня, пораженный моим участием. Казалось, он на мгновение задумался, можно ли мне довериться.
– Не знаю, – сказал он. Потом, боясь, что я приму его молчание за неискренность, добавил: – Честно не знаю, Алессандра.
И взял меня под руку.
Его рука была худой, шершавой, с узловатыми пальцами и слишком большими для его роста ладонями. На нем была белая ажурная футболка, а на плечи накинут пиджак. От него, как и от других знакомых нам парней, исходил резкий запах пота и немытой кожи. Видимо, утром они только умывались, торопясь поскорее вырваться из дома. Этот запах, смешанный с горьковатым ароматом дешевого табака, который он курил, не отталкивал, а, напротив, притягивал.
– Ты недоволен, да? – тихо спросила я, глядя в пустоту, как в те разы, когда мысленно разговаривала с Антонио.
– Да, – так же тихо и осторожно ответил он. – Разве можно быть довольным?
В наших словах не было ничего плохого, но я заметила, как Клаудио озирается по сторонам. Справа поднимался высокий, жесткий камыш – его листья шелестели на ветру, будто кто-то прятался там, подслушивая. Слева же стояли густонаселенные дома рабочих; окна на желтых фасадах теснились друг к другу, а развешанное белье соприкасалось, словно связывая почти семейными узами обитателей разных этажей.
– Разве можно быть довольным? – продолжал он. – Поговорить не с кем. Я впервые признаюсь в этом, Алессандра, и мне уже легче, будто снял тяжелый груз. Наверное, только с женщиной можно быть искренним. Я больше не могу.
Я понизила голос и прижалась к нему на ходу. Но на самом деле это он опирался на меня, как отец в вечер концерта. Клаудио был на три года старше и выглядел уже взрослым мужчиной. Это была моя первая дружба с человеком противоположного пола. Мне хотелось найти в нем опору, доверить ему свои сомнения, дать себя утешить. Но он опередил меня – и это оказалось невозможным. Невозможно, о боже, ни на мгновение позволить себе слабость. Так мне пришлось научиться быть опорой для других: плечом, что поддерживает, рукой, что ведет, голосом, что утешает. Только здесь, сейчас, я обрела наконец покой; я боялась, что не смогу отдохнуть никогда.
Мы шли бок о бок, и Клаудио опирался на меня. Мне казалось, что за нами точно также идут другие пары, притворяясь, что предаются любовному блаженству, тогда как на самом деле просто пытаются поддержать друг друга – мужчина и женщина, вместе создавшие щит от неведомой опасности, подстерегающей нас повсюду.
– Ты знаком с братом Аиды? – спросила я.
– Да, – ответил он.
– Он в тюрьме.
– Я знаю, – тихо сказал Клаудио. И тут же добавил с презрением: – Это трусость. Как ощипать щегла. Как выброситься из окна. Это трусость, поверь, Алессандра. Бунт – это просто, хватит и пяти минут. И вот ты уже герой, и в тюрьме остается только подчиняться порядку, предаваться размышлениям, пребывать в мире с собой. А мужество нужно, чтобы продолжать день за днем жить с отцом, который тебя не понимает, с матерью, которая тебя мучит. Жить, смотри, за одним из этих окон, – он указал на желтый дом, – ходить в школу молча, на работу тоже молча, никогда не задавать вопросов, никогда не бунтовать и встречать эту жизнь, которая понемногу начинает затягивать тебя, увлекать за собой.
Друзья нас обогнали, но мы слышали их смех и разговоры неподалеку. Клаудио прижал меня к себе и спросил:
– Я тебе нравлюсь, Алессандра?
– Да, нравишься, – ответила я.
– Ты меня любишь? – тише переспросил он. И прижал свою шершавую руку к моей, словно хотел слиться воедино.
Я опустила голову, стыдясь лишить его поддержки: я могла бы сказать «да», Фульвия на моем месте так бы и сделала, его личность вызвала во мне непроизвольную симпатию, но прежде всего я хотела быть честной, и мне не казалось, что мои чувства были любовью. Я знала, с каким преображенным взглядом мама возвращалась домой после встреч с Харви.
Я промолчала, и мы продолжили идти молча вдвоем, пока друзья не остановились, чтобы дождаться нас и всем вместе вернуться домой.
* * *В тот же вечер моя мать взяла меня за руку в темном коридоре у кухни и тихо сказала:
– Позже я поговорю с папой, скажу ему, что мы уезжаем. Будь с нами и, если я не попрошу тебя уйти, не оставляй меня.
Ее лицо было суровым и собранным, будто она приняла твердое решение и следовала ему. При этом в последние дни она одновременно казалась мягче обычного, покорнее, исчезли ее причудливые эмоциональные порывы, что составляли ее суть. Порой я со страхом спрашивала себя, не отказалась ли она от заветного плана, но все же надеялась, что она просто притворяется обычной женщиной – сломленной, укрощенной, заслуживающей доверия.
– Мужайся, – сказала я, легонько поцеловав ее в щеку.
Мы пообедали. Отец говорил о привычных вещах, с обычной педантичностью накручивал спагетти на вилку, и я удивлялась – он не чувствует, что должно произойти, не замечает настороженности в воздухе, которым мы все дышали. Но он был так плотно окутан своим эгоизмом, что ничто не могло до него дойти. «Глупости», – говорил он всегда, когда речь заходила о чьих-то душевных страданиях. Если же речь шла о женщине, добавлял: «Пусть идет вяжет носки».
Систа убрала тарелки, бокалы; отец и мать остались сидеть друг напротив друга, разделенные белой скатертью. Она легким движением руки смахивала крошки со скатерти, словно желая, чтобы между ними все было чисто и ясно. Когда муж собрался встать, она остановила его взглядом и сказала:
– Минутку, Ариберто, мне нужно с тобой поговорить.
Он замер, пытаясь разгадать ее намерения. Неохотно сел обратно за стол и спросил подозрительно:
– В чем дело?
Моя мать была совершенно спокойна. Сложила руки на скатерти, теперь уже чистой от крошек, и сказала:
– Через несколько дней я уеду с Алессандрой.
Мы никогда не путешествовали. Наши чемоданы – картонные и плетеные, старомодные – пылились на шкафу.
– Уедете? – переспросил он, изображая преувеличенное изумление. – И куда, если можно узнать?
– Мы уходим, – спокойно ответила мать. – Уходим отсюда.
Воцарилось молчание. Я придвинула свой стул к ее стулу, и мы вдвоем смотрели на него.
– Мы больше не хотим жить здесь, в этом доме.
– Что плохого в этом доме? Это удобный дом с выгодной арендой. Что вам в нем не нравится?
Мать колебалась, надеясь, что он поймет без лишних объяснений, по одному лишь взгляду, и избавит ее от неприятной необходимости.
Наконец она сказала:
– Мы больше не хотим жить с тобой.
Он застыл в нерешительности, оценивая серьезность наших слов. Мы сидели рядом, и мне казалось, он должен видеть перед собой двух Элеонор, одинаково твердых, одинаково решительных, всем своим существом выражавших желание оставить его.
Но мой отец несколько раз перевел взгляд с одной на другую и вдруг расхохотался. Он откинулся на стуле и отвратительно смеялся:
– Ха, ха, – повторял он, – ха, ха, ха, – и смотрел на нас, будто мы сказали что-то очень остроумное, даже комичное: – Ха, вот оно что, вы больше не хотите жить со мной, значит!
Бледная мать сказала:
– Пожалуйста, не надо так. Это серьезно.
Он продолжал смеяться. Стоял душный вечер, окна были открыты; стена дома напротив из-за жары казалась ближе. Я боялась, что все в нашем доме, в соседних домах, на улице слышат смех отца и сейчас из любопытства придут стучать в нашу дверь, чтобы узнать причину этого неудержимого веселья. Причиной были мы и тоска, терзавшая нашу жизнь.
– И как вы будете жить? – вдруг спросил он, переставая смеяться и притворяясь добродушно заинтересованным. – Как вы будете жить? – повторил он.
И это вернуло ему ощущение власти: желтый конверт, который ему выдавали в министерстве двадцать седьмого числа каждого месяца. Он считал, что этими деньгами купил не только право обращаться с нами как с прислугой или жильцами, которым сдаешь комнаты, но и право смеяться над нами, даже не трудясь задуматься, что скрывается за нашим решением.
– Ну, скажите, как вы будете жить? – настаивал он.
– Я всегда зарабатывала, – ответила мать. – Я знаю, что могу зарабатывать еще больше.
– Концертами? – язвительно вставил он.
– Да, и концертами тоже.
Отец снова рассмеялся. Когда он смеялся, рубашка расходилась на его крепкой волосатой груди. Наши слова не оставили ни царапинки на его толстой коже: уверенный в себе, он и не пытался отговорить нас. Он даже показал на дверь – вот она, в двух шагах, стоит только открыть ее, чтобы стать свободными. И все же мы оставались прикованными к белой скатерти, а он смеялся.
– Это серьезно, Ариберто, – повторила мать, пытаясь пробиться сквозь его смех. – Мы уже приняли решение.
Тогда он решил, что шутка затянулась. Резко перестал смеяться, выпрямился на стуле, изменил тон голоса.
– Вы сумасшедшие, – сказал он, жестко смотря то на одну, то на другую. – Сумасшедшие, – повторил он. – Вам нужно пройти восстанавливающее лечение, полечить нервы, попить успокоительное. Я уже говорил: у вас тут что-то не в порядке, – он поднес указательный палец к виску и, делая вид, что закручивает винт, добавил: – Тут. – Посмотрел на нас и издевательски повторил опять: – Тут.
– Не делай так, Ариберто! – взорвалась мать. – Пожалуйста, не делай так!
– Успокоительное, – повторил он.
Встал и, не добавив больше ни слова, вышел из комнаты. Потом мы услышали привычный звук захлопнувшейся входной двери.
* * *Наступили трудные дни. Наша дружба с Челанти теперь напоминала ту теплую солидарность, ту сердечную жалостливую близость, что объединяет жертв преследуемого меньшинства.
Иногда днем, когда я делала уроки, мама заходила в мою комнату и, не называя причины, просила бросить занятия и подняться к Фульвии. Если я сопротивлялась, догадываясь, что это предлог остаться наедине с папой, она умоляюще смотрела мне в глаза: «Иди наверх, Санди, прошу тебя».
Челанти, едва увидев меня, понимали – мама отослала меня, чтобы я не стала свидетельницей тяжелого драматичного разговора. И сразу окружали меня ласковой заботой. Однажды вечером я услышала, как Лидия звонит капитану и говорит, что не может выйти из-за Элеоноры. Мне хотелось попросить ее не беспокоиться обо мне, но страх остаться одной был сильнее. Мы сидели на кровати, почти не разговаривали, ничего не делали – просто ждали, когда пройдет время, и ждать вместе было как будто легче. Напряженные, чувствительные, мы вздрагивали при каждом звуке, готовые броситься на помощь. В этом мучительном ожидании состояла наша борьба против моего отца – всеми доводами, что есть у женщин и которые мужчины не в силах понять.
Однажды, едва я вошла, Лидия взволнованно сообщила:
– Сегодня она ему обо всем расскажет.
– О чем именно?
– О Харви.
Мне стало не по себе. Я боялась, что одна отцовская ухмылка может измять, испачкать, даже разрушить прекрасную сказку, которую я тоже проживала, через мать.
– Наступает момент, когда нужно говорить прямо, – сказала Лидия. – Иначе нельзя.
– Да, – согласилась я, – но только не с папой. Папа ничего не поймет.
– Именно поэтому, – возразила Лидия. – Нужно учитывать закон.
– Какое отношение ко всему этому имеет закон? Здесь речь о чувствах.
– О! – воскликнула Лидия. – Закон никогда не думает о чувствах женщин.
– Как можно создать закон, – спросила я, – который будет по-настоящему справедлив, если ты игнорируешь то, что для женщины важнее всего?
– И тем не менее это так, – сказала Лидия.
– А у мужчин, мама? – после паузы спросила Фульвия.
– С ними все иначе. О мужских чувствах никогда не говорят. Говорят только об и… потребностях. Как бы объяснить…
– Ты хочешь сказать, – грубо перебила Фульвия, – потребности переспать с женщиной?
– Именно.
Меня захлестнуло такое острое отвращение, вспыхнул такой сильный внутренний протест, что я резко спросила:
– И об этом закон тоже заботится?
– Да, – ответила Лидия. – Когда речь о мужчинах.
По лицу разлился жар:
– А можно, – спросила я, – обойтись без этого? Это трудно, но, думаю, возможно, – я вспоминала Энея и говорила, не глядя подругам в глаза. – Но как обойтись без чувств?
Фульвия и Лидия молчали. А потом Лидия объяснила мне, как устроен закон и как по-разному он определяет значение слова «верность» – для мужчин и женщин. Она сказала, что моя мать решила признаться мужу, что любит Харви, что никогда не была его любовницей и что хочет уехать, чтобы жить честно, разделяя с ним общие вкусы и стремления.
Пока она говорила, я расплакалась. Я не плакала много лет: мама вырастила меня счастливым ребенком. Она научила меня довольствоваться малым в материальном плане и чувствовать себя богатой во всем остальном. Я действительно не помнила, чтобы плакала в детстве – разве что однажды, лет в одиннадцать, когда мне показалось, что я серьезно больна. Я призналась Систе, не желая тревожить маму. И она сказала, что я не больна, а просто стала женщиной. Не спрашивая ни о чем, я заперлась в своей комнатке, спряталась в своей узкой кровати между шкафами – моем надежном убежище – и растопила слезами комок горького унижения, который сидел у меня внутри.
– Нужно что-то сделать для женщин, – сказала Фульвия. – Дарио говорит, со временем так и будет.
– Со временем! – воскликнула Лидия. – Каждая женщина ждет, когда же это время наконец наступит, а жизнь проходит.
– Дарио уверен, что перемены будут. В Америке женщины могут голосовать и быть депутатами.
Я лежала на кровати и тихо плакала; слезы приносили облегчение. Фульвия продолжала говорить, а я качала головой, прося остановиться. Я едва понимала, что значит «депутат» и «избиратель», и совсем не стремилась ими стать. Но я не хотела, чтобы о женщинах говорили как о низших или неполноценных, для которых нужно что-то делать. Я хотела, чтобы нам позволили жить согласно нашей ранимой природе – как мужчинам позволено жить согласно их силе. Нет, твердила я, качая головой, не нужно ничего делать для нас; мы, как и они, просто по праву рождения должны иметь право на уважение.
Я плакала, и мне никто не мешал. Лидия похлопывала меня по плечу, и это было единственное утешение, которое она могла мне дать. Я взяла ее пухлую руку и с благодарностью поцеловала. Наконец она сказала: «Они, наверное, уже закончили», – и я пошла вниз. Было темно.
Я зашла на кухню, где Систа гладила белье при тусклом свете лампы. Она подняла глаза и по моему взгляду поняла мой немой вопрос: «Где они?»
– Он вышел.
– А мама?
– У себя, в темноте. Должно быть, лежит. Закрылась на ключ.
Я села за стол, где Систа продолжала старательно гладить. Утюг, двигаясь взад-вперед, обдавал меня волнами жара.
Она гладила отцовскую рубашку – с длинными широкими рукавами. Даже Систа, обычно ловкая, не могла справиться с этими рукавами.
– Что случилось? – спросила я.
– Не знаю. Твой отец кричал, твоя мама все время плакала.
– Почему?
Она помедлила и ответила:
– Не знаю.
– Ты лжешь, Систа. Я уверена, что ты не удержалась и подслушивала у двери. Что они говорили? – твердо настаивала я.
После паузы она тихо призналась:
– Я мало что разобрала, твоя мать говорила тихо. Он сказал: «Это пройдет»; а она плакала, отвечала: «Это невозможно, это никогда не пройдет», сказала: «Пока я жива». Он ответил, что все женщины…
– Что все женщины?
– Он сказал: «Все они шлюхи».
– Прямо так? Маме?
– Да, – Систа продолжала гладить, опустив голову. – А потом добавил: «Ты останешься здесь, в этом доме».
– Что еще?
– Не знаю. Он ходил по комнате, я боялась, что он меня заметит.
Утюг скользил по огромной рубашке отца. Систа молчала, а у меня не было сил допрашивать ее. Я смотрела на рубашку, ослепленная ее белизной. Мне не хотелось ни шевелиться, ни даже идти утешать маму. Я подняла взгляд на Систу: в ее неподвижном лице, в пустых глазах читалась давняя привычка к покорности.
– Что можно сделать, Систа? – спросила я ее однажды вечером.
Она ответила:
– А что ты можешь сделать? Он муж.
«Это их дело, – ответила она в другой раз. – Дело двух людей, которые поженились и должны прожить вместе всю жизнь. А жизнь длинная».
Я не хотела смиряться – и тут же, потрясенная, поняла, что уже бросаю маму, оставляю ее одну в глубокой тоске, измученную слезами, и сижу смотрю, как Систа гладит. При свете лампы большая рубашка (с круглым вырезом горловины, манжетами, очертаниями плеч) казалась живым, навязчивым мужчиной, распластанным перед нами во всю свою ширь – самодовольным, уверенным в себе. Мы внимательно следили за ним, служили ему, заботились о нем. Я видела, как черный утюг медленно скользит по белой рубашке, как по бледной коже. Утюг напоминал отвратительную пиявку. Систа вела его вокруг уже отглаженного жесткого воротника, чтобы и с внутренней стороны ткань стала безупречно гладкой. Она водила им снова и снова, упорно, с ожесточением. Казалось, черный зверь хочет впиться в шею, высосать всю кровь. И вдруг в этих резких, колющих движениях я разглядела тайный умысел.
– Научи меня гладить, Систа, – прошептала я.
Она резко подняла на меня глаза – испуганно, будто я раскрыла ее преступление. Она долго изучала меня, и ее неподвижные глаза заполнили все ее худое лицо. Наверное, она хотела сказать «нет». Но вместо этого снова провела черным острым утюгом по хрупкой белизне воротника.
– Да, – тихо ответила она. – Это то, что должна уметь каждая женщина.
* * *Так мы дожили до двенадцатого июля – восемнадцатой годовщины смерти моего брата. Уже много лет в этот день мы с матерью вдвоем отправлялись к реке. Отец устал от этой церемонии, которая теперь, когда первая острая боль утихла, должно быть, казалась ему бессмысленной и даже нелепой. «Сегодня не могу, – сказал он в первый раз, когда мы, одетые в черное, собирались выйти. – У меня важное дело». Он будто неуклюже оправдывался за дурной поступок; мы прекрасно знали, что у него никогда не было никаких важных дел. На следующий год он снова нашел предлог, а потом перестал объясняться.
Утром двенадцатого июля моя мать позвала Оттавию очень рано. Теперь она приходила к нам довольно часто, но отец ее никогда не видел. Когда Оттавия входила своей хромающей, решительной походкой, весь дом сразу оказывался в ее власти.
В эти дни даже Энея выгоняли из гостиной – он сидел на кухне с Систой, дожидаясь конца сверхъестественной беседы. Я представляла, что все его дни проходят так: он переходит с одной кухни на другую, сохраняя наиграно серьезный и понимающий вид. Если сеанс затягивался, Систа предлагала ему хлеб с сыром. Перекусывал он с мрачным выражением лица, будто даже еда не могла его порадовать, быстро проглатывал кусок за куском, молча жевал, зажав коленями потрепанную сумку с травами и амулетами.
В такие моменты он даже не смел осматривать меня тем своим частым скользким взглядом. Он весь сосредотачивался на жадном поглощении пищи, его скрытая животная сущность проявлялась в том, как он кусал, жевал, глотал. Его голод и бродячая, унизительная жизнь в конце концов вызвали во мне что-то вроде жалости. Время почти не меняло его: тело осталось коренастым, голова – большой, а лукавое выражение лица ожесточилось под влиянием уже взрослого опыта. Он всегда носил черное.
– У меня было знамение, – сказал он двенадцатого июля. – Я увидел лицо на стене, а потом ночью явственно услышал голос: «Пиши».
– Значит, – спросила я, – ты тоже выбрал эту профессию?
– Это не профессия, – поправил он. – Это миссия.
Систа пошла подслушивать у двери гостиной, и он воспользовался этим, чтобы взять мою руку. Прикосновение его кожи глубоко взволновало меня, и я злилась, что именно такой мужчина, как он, вызывает во мне это непреодолимое смятение. В сумку, где он хранил травы и амулеты, клиенты могли положить несколько лир, яйцо, кусок хлеба. Но его не унижало это нищенское положение; напротив, он хотел всю жизнь принимать эту милостыню, хотя был здоров и силен и мог бы легко найти работу.
– Оставь меня, – резко сказала я, отдергивая руку. – Я скоро уеду, знаешь? Мы уезжаем. Ты и твоя тетя больше никогда не придете в этот дом. Возможно, – добавила я с оттенком злобы, – мы видимся в последний раз.
Эней отвратительно улыбнулся:
– Не думай об этом. Думай сейчас обо мне, – и попытался просунуть ладонь в вырез моей блузки.
Я резко оттолкнула его. И в этот момент услышала, как мама, словно спеша мне на помощь, выходит из гостиной под арпеджио металлических колечек, на которых висели портьеры.
Мы обнялись в полутемном коридоре; ее взгляд был возбужденным, почти безумным.
– Он тоже придет на встречу сегодня, – сказала она.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания