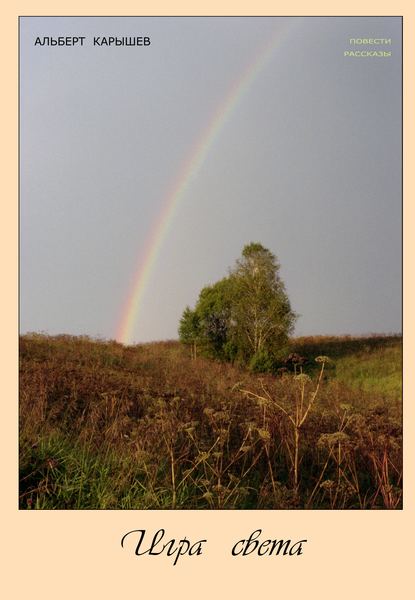По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игра света (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Стало быть, можно надеяться, Николай Иванович?
– Ладно, надейтесь. Я поднимаюсь рано. Будильник заведите на шесть часов…
Ровно в семь он явился ко мне и на высоком пристрое крыльца выложил из облезлого чемоданчика синюю робу, железный складной метр, ватерпас, мастерок, ручник и гирьку на шнурке – отвес. Войдя в сени, печник снял с себя дырчатую шляпу, парадный костюм, у которого лацканы пиджака завернулись, как сухие листья, а брюки давно утратили складки, снял галстук, рубашку и всё развесил на настенных крючках рядом с нашими плащами и телогрейками. Надев рабочие штаны и куртку с хлястиком, испачканные известью и краской разных цветов, натянув на лысую голову старую кепку, он глянул на меня с прищуром, как портретный Ленин, и сказал:
– Ну-с, приступим.
– Может, сперва чайку? – спросил я. – У меня всё готово.
– Нет, допрежь поглядим, покумекаем. Торопись, как говорится, не спеша, тогда дело лучше идёт…
Мы пошли во двор. Место для печки я наметил за пределами огорода: ровный участок между сиреневыми и терновыми кустами, недалеко от бокового прохода в заваливающемся частоколе (тоже надо было поправлять). Я даже заранее обозначил штыком лопаты прямоугольник небольших свободных размеров – проекцию плиты, – а потом серпиком срезал на нём вихры перистой травки, оболванил строительный участок «под Котовского». Посмотрев на мои труды, печник одобрительно хмыкнул.
– Годится. Тут и сложим печурку.
– Давайте схожу за инструментом.
Я уже чувствовал себя подсобным рабочим, готовым прислуживать мастеру, быть у него на побегушках. Шестёркин отмахнулся.
– Успеем за дела взяться. Пошли в избу. Посидим, сосредоточимся.
В избе я сказал:
– Чудесно. Чаю попьём. Я ведь ещё и не завтракал.
Он ответил:
– Нет – чай после. Для начала грамм по сто неплохо было бы опрокинуть, промочить горло. У меня такое правило. Ставьте, Вениамин, на стол бутылку, а чайник и чашки пока убирайте. Выпьем по пять капель, покурим и засучим рукава. Редиска, я видел, у вас на грядках хорошая растёт, давайте её на закуску, с маслицем. Лучку ещё зелёного нарвите. Можно и чесноку по пёрышку.
Конечно, я оторопел, вспомнив решительное заявление крестьянки Портновой о великой, святой трезвенности Николая Ивановича, о его язве. Хотел спросить Шестёркина про язву, но подумал, что разговор у нас с ним заведётся бесполезный и бессмысленный. Разозлился я на печника и сгоряча едва его не прогнал, однако взял себя в руки и лишь затянул ответ. «Может, шутит старичок? – подумалось мне. – Испытывает на прочность?» А он глянул простодушно и смягчил своё условие:
– Ну, ежели нет бутылки, то ладно, ничего. Можно и так. После купим. Работа, конечно, толком не пойдёт, но уж не обессудьте…
– Почему? – Я вроде даже обиделся на Шестёркина за уступку с его стороны, как бы скидку на бедность. – Водка у меня есть. Купил для лечебных целей. Если хотите выпить, извольте. Посидим вместе. Только как это отразится на работе? Не запорем мы печку?
– Никогда! – сказал он. – У меня, как выпью, глаз становится острее и рука твёрже. Не сомневайтесь, Вениамин.
– Добро, – сказал я суховато. – Пейте, раз у вас потребность и правило. Почему только вы зовёте меня Вениамином? Кажется, я представлялся Альбертом.
– А! Прошу извинения, вылетело из головы! Буду называть Альбертом! У меня на имена память плохая…
Я наскоро приготовил холодную закуску: салат с картошкой, зелёным луком, чесноком и укропом, а отдельно порезал редиску. Молча выпили по стопке, крякнули, заели и остановились. Шестёркин повёл себя достойно. Когда я собрался налить ему вторую стопку, он прикрыл её ладонью.
– Всё, Альберт. Баста. Пей, а дело разумей. Это у меня тоже правило.
Отказался он пока и от чая, попил ключевой воды из ведра в сенях и сел на дощатую ступеньку крыльца, а я примостился рядом. Неторопливо выкурил печник сигарету, почему-то внимательно поглядывая сбоку на меня, некурящего, встал и опять натянул на голову кепку. Захватив инструмент, мы пошли работать, и кладка уличной печки запомнилась мне на всю жизнь.
По указанию Шестёркина я взял лопату и часть заготовленной подсохшей глины переложил из помятого стирального бака в поржавевшую бадью. Залив глину водой и засыпав песком, я палкой замесил раствор, разбил в нём все комки и удостоился похвалы мастера.
– Эх, жалко цемента нет! – посокрушался печник. – Или хотя бы навоза!
Он велел подать ему несколько плоских белых камней. Эти камни, известняк, ежегодно слой за слоем поднимаются у нас в огороде из глубины земли к поверхности, и, перекапывая грядки, я усердно работаю не только лопатой, но и ломиком. Я притащил несколько разновеликих плит, сложенных на всякий случай у сарая (грядки обнести для удержания влаги, или вот – для строительных целей); Шестёркин положил известняк в основание печки и постучал по плитам ручником, выверяя «горизонт» с помощью ватерпаса. Потом я подавал ему кирпичи, а он обмазывал их раствором и пригонял один к другому по намеченному прямоугольнику. Солнце, поднявшееся из-за леса, выплывало на простор чистого неба. День разгорался жаркий. Нынче в начале лета (ещё сирень и терновник у нас в усадьбе не совсем отцвели) была засуха, и расплодились комары с мошками, чёрными тучами они витали над нашими головами и всё сильнее кусались. Шестёркин мало обращал внимания на кровососов, работал спокойно, добросовестно, и я любовался тем, как он шустро действовал маленькими руками в защитных рукавицах, иногда тихонько напевая озорные частушки.
С час потрудившись, он убил комара на лбу, положил на возводимую кирпичную стену мастерок, рукавицы и объявил:
– Перекур! Хлопнем ещё по черёпке, а тогда и продолжим с новыми силами!
Мог ли я, когда дело во всю развернулось, сказать ему: «Не надо бы «хлопать»-то, ни к чему. Пользы всё равно не будет, только вред»? Я ведь и сам уже проштрафился: вместе с Шестёркиным почал бутылку и тем поспособствовал коллективному пьянству на работе.
Мы с ним опять выпили, и теперь Николай Иванович спросил крепкого чаю. Посмаковав его с конфеткой, он закурил в избе при закрытых дверях, так как снаружи всё настырнее досаждали комары и мошки. Немало их залетело и в комнату.
– Вы, Альберт, из каких слоёв будете? – спросил он сквозь воткнутую в рот сигарету, которую придерживал между вытянутыми пальцами. – Из буржуазных? Небось, начальником работали?
Я ответил, что начальником никогда не был и не собирался быть – это не моё. Хороших начальников люблю, среди них есть у меня друзья, но сам не тратил жизнь на то, чтобы выбиться в начальники.
– На что же вы её тратили, жизнь свою?
– На то, что интересно было мне. По морям плавал, корабли строил. В качестве не начальника, а рядового.
– А! Но всё же вы человек непростой, сразу видно. Слышал, будто книжки пишете. Правда ли?
– Ну… кое-что пишу. Пописываю.
– Вот видите. А говорите – из рядовых. Лукавите, значит.
В его представлении, я понял, писатель был сродни директору завода, губернатору, депутату Госдумы. Я не стал разубеждать его в этом и убеждать в том, что я – самый, что ни на есть, простой человек. Решил, что не смогу толком объяснить.
– И о чём же таком вы пишете? – спросил Шестёркин, скосив на меня хитрый зеленоватый глаз, притуманенный дымком от сигареты. – Выдумываете, или из гущи жизни?
– Из гущи, – ответил я. – Из недр. Из бездны.
– Салтыкова-Щедрина всё одно не переплюнете, – сказал он. – Михаила-то Евграфовича.
Мне хотелось узнать, почему не переплюну именно Салтыкова-Щедрина, а, к примеру, не Достоевского, но печник заговорил уже о другом, в застолье – о главном. Он взял бутылку со стола и, взболтнув остатки содержимого на фоне солнечного окна, произнёс:
– Осталось там ещё. Не высохло.
– Может, картошки сварить? – спросил я.
– Обойдёмся. Лучок, чесночок, хлебушек есть, ну и ладно.
Вернулись во двор. Печник помахивал мастерком, пристукивал деревянной рукояткой по кирпичам, и они послушно ложились один на другой, а лишнюю кашицу глинистого раствора, выступавшую меж кирпичами, Шестёркин экономно соскребал и стряхивал в ведро. Кирпичей оказалось недостаточно. Я спускался под гору к дому Сергеевых и по договорённости с другом-предпринимателем брал его кирпичи, вынесенные за изгородь. Чёрные, жаростойкие, они были крупнее и тяжелее обыкновенных красных, не встречавшихся в штабеле. Одежда моя и рукавицы трещали от кирпичей. Старые кости и мускулы болели. С парой штук в руках, на плечах или под мышками я едва входил в крутую гору, принятое внутрь спиртное вытекало через поры моего тела, разогретого солнцем и трудовым напряжением. Снял с себя мокрую от пота рубаху, остался по пояс голый. Боялся, замучит гнус, но, видно, опьянение действовало обезболивающе, и от укусов комарья и мошкары я не очень чесался. Волосы мои слиплись под дырявым беретом, проеденным молью ещё в городе; испарина капала на глаза, они разъедались солью и ослеплялись мельтешением в них радужных пятнышек…
На новый передых я двинулся мелкими зигзагами, рывками. А Николай Иванович – ничего, каким был, таким, кажется, и остался, загорел только до глянца, закоптился на неистовом солнце, как окорок. Он умылся в сумеречных прохладных сенях из рукомойника и, не теряя минуты, пошёл к столу. Мы с ним выпили по третьему разу и, закусив, по четвёртому, прикончили бутылку. Куря, Шестёркин кивком указал на моё обнажённое тело.
– Колдун вы, что ли, какой-нибудь, что комары и мошки вас не заедают? Я вот вроде терпеливый, а и то почёсываюсь иногда сильно.
– Гнус не выносит алкогольного духа и вкуса разбавленной спиртом крови, – ответил я припухшим языком. – В вашем организме водка из желудка поступает в мочевой пузырь, а в моём перемешивается с кровью и частично выходит с потом. Одни комары и мошки, усевшись на меня, засыпают, другие окочуриваются. Пол вокруг моей табуретки замусорен кровососами.