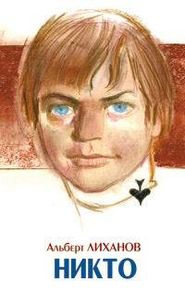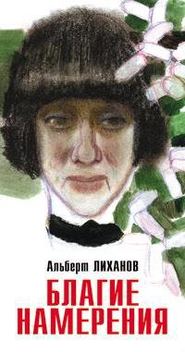По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лабиринт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Аньжанер! – Бабка злится. – Аньжанер, а вся цена-то сто рублей. Без вычетов. – И отца уговаривает, чтоб ушел из конструкторского, чтоб перешел в цех.
По-всякому бабка отца уговаривает. Сперва добром, как она выражается.
– Переходи-ка ты, Петя, – говорит, – в цех! В цех, Петя, переходи! Не все одно тебе, где работать! В цеху работяги по двести заколачивают – слышь, в два раза больше!
А когда отца такие уговоры не пробирают, таранит его бабка с разгону. Личико у нее розовеет от ярости и кукожится, словно задница у мартышки. Ладошки бабка в кулачки сжимает и орет скрипучим голосом:
– Тилигенция голоштанная! Дармоеды! Мужик здоровой, мешки грузить могет, а сто без вычетов получает! А с вычетами-то?
«Ну все», – думает Толик. Сейчас закричит отец, не выдержит или оденется молча, дверью хлопнет. А мама, как только отец выйдет, возле бабки бегать станет, по плечам ее гладить, водичку носить, валерьянку капать, утешать, видите ли.
Вернется потом отец – и в доме как в глухом лесу. Тихо, пусто. В одном углу баба Шура сидит. Мама возле ее локотка, ни на шаг в сторону – слуга несчастная. Отец – в другом углу. Дымит, туманит комнату.
Ходит между ними Толик неприкаянный, за что взяться – не знает. Все из рук валится. Подойдет к отцу, скажет ему что-нибудь, он ответит. Не как всегда – подробно, с толком, а так: буркнет, скажет слово – и все. Подойдет к маме – уж лучше и не подходить к ней, – посмотрит она больными глазами, скажет, будто простонет. Ну а бабка – как сыч на суку. К ней не подходит Толик.
Мается он, бродит, рисовать свое море сядет, в синюю краску кисточку макнет, по листу проведет – бросит. Море веселое, море яркое и светлое должно быть, а тут оно мертвым, серым выходит.
От такого моря еще тоскливей становится Толику.
3
Толик промыл кисточку, закрыл коробку с красками, порвал испорченный рисунок. Ах, баба Шура! Вот было у него настроение замечательное – еще бы, шутка ли, четверка по алгебре, а теперь опять как всегда. Будто была солнечная погода, да подул ветер, и снова хмарь, снова низкие лучи. И четверка по алгебре уже совсем исчезла. Умом знаешь, что она есть, а радость и удовольствие пропали.
Всегда она так, баба Шура, всегда все испортит, расстроит, такое у нее странное уменье – все и всем портить.
Бабка что-то притихла. Толик поискал ее глазами и увидел на диване. Баба Шура сидела, согнув спину, а на коленях у нее лежал бумажник. Знаменитый бабкин бумажник с потертыми, побелевшими краями.
«Вот значит что! – ухмыльнулся Толик. – Пенсия!» Ну конечно, не зря же бабка о богатых художниках разговор завела. Она зря и слова не скажет.
Что она за жадина все-таки! Ни характер хороший, ни другие какие достоинства в людях бабку не интересуют. Если о ком разговор зайдет, бабка всегда один вопрос задает: а сколько он получает? Если много, она согласно головой кивает – заранее, хоть и человека ни разу не видела и не знает, кто он такой, а уже уважает. Если мало зарабатывает, ей отвечают, она про такого уже ничего и не спрашивает. Неинтересно ей.
Ну а дома – дома бабка всем деньгам хозяйка. Как получка – и мама и отец все деньги бабке сдают. И она им выдает потом. Пойдет мама в магазин, баба Шура ей денег дает, а вернется мама, всю сдачу до копейки бабка у нее забирает. Только оставит восемь копеек – на троллейбус туда и обратно. Обед мама с собой в бумажке носит. Два бутерброда с колбасой или, того хуже, с баклажанной икрой. Вот и ходит мама белая как бумажный лист.
Отец у бабки тоже под отчетом. Вечером она ему полтинник в карман кладет. Ничего не говорит, сунет полтинник, и все – на обед. Толик вначале все удивлялся, откуда у бабки столько полтинников. Потом в магазин с ней пошел и увидел, как баба Шура там тройку на полтинники разменивала. Чтоб, значит, удобнее отцу выдавать.
Ну а про Толика и говорить нечего. В школьном буфете булочки на переменках продают – желтенькие, пушистые, пятак цена-то, да нету у Толика пятака. Баба Шура ему кусок хлеба с маслом дает. Все хлеб да хлеб…
Конечно, и хлеба Толик поест, с ним, понятно, какой разговор. Вот маму жалко, когда поглядишь, как она бабе Шуре все копейки из кармана сдает.
А баба Шура сидит в это время выпрямившись, будто на уроке. Потом вытащит из серой кофты блестящий ключик, откроет комод, достанет оттуда бумажник, в бумажник деньги сложит, комод закроет, ключик обратно в карман.
Будто в доме воры есть и боится баба Шура, как бы кто деньги не взял. Все прячет, прячет деньги в свой бездонный бумажник.
А когда пенсию бабке приносят, она по пять раз на день бумажник свой из комода достает. Деньги все пересчитывает.
От этой пенсии, которую бабке ровно двадцатого числа почтальонша приносит, никому житья нет.
Если почтальонша хоть на день опоздает, бабке прямо невмоготу. Все топчется, топчется по комнате. Будто потеряла чего. Молчит и топчется. Потом не выдержит – оденется и на почту идет. Все бросит – и пойдет. Если на кухне суп у нее варится, так и не доварит, выключит газ и айда на почту. Если там очередь, не поворотит назад баба Шура. Хоть час выстоит, но заставит все перерыть, все бумажки перетрясти, найти ее пенсию. Уж тетки на почте бабу Шуру в лицо знают. И почтальонша старается первой на своем участке ей деньги принести, чтоб не бегала, не мешала работать.
Зато когда принесут бабке ее «зарплату», когда пересчитает она, мусоля пальцы, грязноватые бумажки да сложит их в комод, под тонкий серебристый ключик, посмотрит бабка вокруг себя, будто Наполеон какой. Будто она победу великую одержала.
И по ней видно – по сухонькому ее лицу, по грачиному носику, какое ей от этой пенсии удовольствие. Даже вроде добрей баба Шура становится.
Вот и сейчас.
Сосчитала бабка деньги и в потолок уставилась, улыбается потолку.
Смотрит Толик на бабушку и не узнает. Морщинки на щеках разгладились, и в глазах какое-то свечение.
Баба Шура очнулась, увидела, что Толик ее разглядывает, разом построжала, спустилась со своих денежных облаков.
Насупилась, захлопнула бумажник, спрятала в комод, подальше от Толикиных глаз.
– Иди-ка, Толик, – строго сказала, – погуляй.
«В одиночестве, наверное, о своих деньгах помечтать хочет, – подумал Толик, – чтоб никто не мешал», – и натянул на голову танкистский шлем – свою гордость. Застегивая его, Толик вспомнил отца и снова поразился бабке. Как это ухитряется она мерять отца только на деньги! Да отец такой замечательный!
Толик вышел во двор. В сгустевшей темноте горела яркая лампочка, освещая хоккейную площадку. Под ней носились мальчишки, гоняли шайбу, орали, и Толик поправил шлем.
Сейчас он придет на площадку, и мальчишки без слова уступят ему место центрального нападающего, потому что на Толике отцовский шлем, а всю эту площадку сделал не кто-нибудь, а отец Толика.
Толик вспомнил, как это было. Отец вышел во двор с совковой лопатой и стал раскидывать снег. Он разогрелся, от него пошел пар, и тогда отец скинул пальто, повесил его на столбик, к которому цепляют бельевые веревки, и снова замахал лопатой. Толик ему помогал, тоже раскидывал снег, но лопата у него была взрослая, тяжелая, и он устал, остановился передохнуть, обернулся к отцу.
А отец наклонился чуть и так швырял снег, что аж пыль холодная летела по двору. Он метал и метал снег, не разгибаясь, не глядя по сторонам, и покрякивал от удовольствия. Потом остановился, увидел, что Толик на него глядит, подмигнул ему и шапку над головой приподнял, будто снял крышку с кипящей кастрюли: пар от головы клубами валил.
Толик засмеялся, любуясь распаренным отцом, – такой мороз, а ему жарко, – любуясь, как снова, словно рычаг, размеренно и сильно заходила в руках у него лопата, и ему захотелось работать с таким же азартом, как отец. Он замахал своей лопатой, конечно, реже и труднее, чем отец, но тоже покрякивая, – правда, не столько от удовольствия, сколько от тяжести, – но все равно работа шла, над двором летела тонкая снежная пыль, и из этой пыли вдруг вылезли дворовые пацаны с лопатами, и теперь уже не только отец с Толиком крякали, как утки, а будто налетела целая стая.
Площадку расчистили, потом долго таскали в ведрах горячую воду, которая растекалась на площадке стекленеющими лужами, и над ними в тихом морозном воздухе стлался густой туман. Отец таскал по два ведра сразу, потом заложил по краям поля доски, и неплохая наутро вымерзла площадка, настоящая получилась хоккейная коробка, и лед был довольно гладкий. Но играть все-таки ребята любили без коньков, в валенках, чтобы посильней бить шайбу, а то на коньках такого сильного удара не получалось, больше падали и в кровь разбивали колени. Так что в шайбу во дворе играли без коньков, и центром нападения всегда был Толик, хоть и жили в доме ребята постарше его, пятиклассника. Да, играл Толик в нападении, именно центром, потому что только центром, никак не меньше, можно было играть, имея такой великолепный, такой изумительный танкистский шлем, через который не слышны никакие удары. Можно даже клюшкой по голове стукнуть – ничего, выдержит. Не изо всей, конечно, силы.
Словом, то, что Толика выбрали центром нападения, относилось не к его личным заслугам, а к танкистскому шлему и к тому, что это его отец придумал сделать площадку для ребят.
И Толик был благодарен отцу.
4
Когда Толик вернулся с улицы, отец был уже дома, сидел за столом напротив мамы, а баба Шура разливала в тарелки перловый суп.
Мама увидела распаренного Толика в шлеме, сразу нахмурилась.
– Опять гонял, – сказала, – лучше бы дома посидел. Книжку почитал. Или полепил из пластилина, у тебя хорошо получается.
И правда, у Толика из пластилина хорошо получается. Еще во втором классе он бабу-ягу из пластилина слепил. И Наполеона с одним глазом: на втором – черная ленточка, выбили Наполеону глаз на войне. Но это же во втором классе было. А сейчас пятый. Пятый – это-то понять можно?
И потом – совсем разные вещи, когда тебя за Наполеона одна мама хвалит и когда тебя хвалят за отличную шайбу все ребята, вся команда. Совсем другое дело! Тут ты сам для себя. Ну, для мамы еще. А там для целой команды.
Но мама всегда ворчит, когда Толик во дворе шайбу гоняет. Она хочет, чтоб он дома, перед глазами сидел. Отец шевельнулся недовольно – это у них старый спор, нерешенный.
– Надо, чтоб он коллективистом был, – сказал отец.