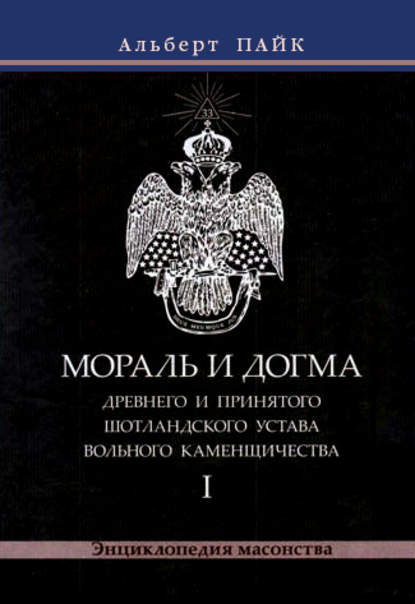По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичества. Том 1
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Писать на скале – значит, писать на пергаменте, который выстоит многие века, но чтобы увидеть написанное, нужно, по меньшей мере, дойти до этой скалы. Кроме того, эта надпись существует лишь в одном экземпляре, а время вскоре уничтожит и его. Писали в свое время и на звериных кожах, и на папирусе, но это означало создать опять-таки лишь один экземпляр записи, да и то доступный лишь богатым. Китайцы унифицировали не только способы изложения древних преданий, но также перенесли эти стереотипы на изложение текущих событий в своих летописях. Мысль в этих условиях душилась, а прогресс тормозился, поскольку в мыслящих умах постоянно происходит брожение, и Истина запечатлевает свое последнее слово не на чистых таблицах, а на длинном свитке, созданном заблуждениями и с тех пор неоднократно подвергавшемся правке.
Книгопечатание расцвело и начало плодоносить с изобретением подвижного шрифта. С этого момента речи ораторов стали «слышны» всем желающим их услышать народам; и автор какой-либо речи, как Папа Римский, мог размножить ее и сделать доступной всей Вселенной, urbi et orbi
, приказав расклеить ее на всех площадях и рынках, оставаясь, если он того хотел, невидимым и неизвестным своим читателям. С этого момента следует отсчитывать начало конца тираний. Сатира и памфлет стали настоящим и сильнейшим оружием. Невидимые руки Юниев могли метать молнии и расшатывать престолы первосвященников и сенаторов. Простой шепот такого «гиганта» наполняет собой всю землю, как голос Демосфена – агору. Скоро антиподы смогут слышать его с той же легкостью, с какой внимают ему ваши знакомые с соседней улицы. Со скоростью молнии он пересекает океаны. Он делает людскую массу одним единым организмом, говорит с нею на доступном ей языке и получает несомненный и чаще всего одобрительный ответ. Речь переходит в мысль, а затем – в действие. Народ становится одним целым в самом священном смысле этого слова, с единым сердцем и единым бьющимся в унисон пульсом. Каждым гражданином всегда ощущается незримое присутствие всех остальных; они для него – как добрые духи или ангелы-хранители; и одинокий мыслитель, затерявшийся где-то далеко в альпийской деревушке, никому не известный или всеми давно позабытый, один среди холмов и овечьих отар может в одно мгновение сделать свою мысль достоянием всех народов за всеми океанами.
Выбирайте себе в законодатели мыслителей и избегайте пустобрехов. Мудрость редко когда многословна. Вес и глубина мысли находятся чаще всего в обратной пропорции к обилию слов, необходимых для ее выражения. Неглубокие и суеверные мысли часто выражаются многословно, и поэтому нередко сходят за изложенные «красноречиво». Больше слов – меньше мысли. Это общее правило. Человек, желающий сказать нечто, из чего каждая фраза должна запомниться, становится разборчив в выборе слов, и речь его становится краткой, как речь Тацита. Низменные же люди часто прибегают к многословию. Словесные украшения, за которыми не стоит сила мысли, – это пустая мишура болтовни.
Средний гражданин не может полностью оценить также и тонкостей диалектики. В христианской вере она есть, и раньше ее было в ней больше, чем в наши дни; больше тонкостей, которые в свое время так привлекли к этому учению Платона и которые вместе с тем сумели обратить в бессмысленную обрядность учения раввинов древней Иудеи и мудрость древнеиндийских сказаний. Не она переубеждает язычника. Бесполезно балансировать величайшими достижениями мысли человечества, точно соломинками на кончике пальца, в ходе дискуссии. Это не то, что могло бы заставить образ Креста навечно воссиять в сердцах неверных; настоящая мощь пребывает в Вере.
Таким образом, именно политическая схоластика оказывается совершенно бесполезной. Проворное изложение логических тонкостей никогда не возбуждает сердца людей, и ни в чем не убеждает их. Но настоящий апостол Свободы, Равенства и Братства материализует их и делает вопросом жизни или смерти. Его битва – это битва Боссюэ, битва не на живот, а на смерть. Настоящий апостольский огонь подобен молнии; он выжигает веру на плоти души. Истина – действительно обоюдоострый меч. Вопросы настоящей политической науки вряд ли можно решить только лишь способами, предлагаемыми разумом и здравым смыслом, пусть это даже здравый смысл не профана, а мудреца. Самые изощренные мудрецы редко выбиваются в полководцы человечества. Лозунг или призыв имеют больше власти над народом, чем самая твердая логика, особенно если в них как можно меньше метафизики. Когда на политическую сцену поднимается новый пророк, чтобы пробудить ото сна застоявшуюся в бездействии нацию, предотвратить ее падение в бездну, потрясти землю, подобно вулканическому извержению, сбросить бессмысленных идолов с их позлащенных престолов, – слова его исходят прямо из уст Господа и намертво впечатываются в людское сознание. И он будет увещевать, учить, предостерегать и править. Истинный духовный меч острее самого острого дамасского клинка. Такие люди правят своими землями властью справедливости, мудрости и своей собственной силы. Все же люди, знакомые с тонкостями диалектики, чаще всего правят хорошо, поскольку часто на практике они забывают о своих столь тщательно выверенных теориях и пользуются лишь примитивной логикой здравого смысла. Но если великий ум и неспокойное сердце в быту оставлены за сферой интересов правителей, если мелкие чиновники, дилетанты в политике и те, кто в большом городе был бы лишь банковским клерком или же записным адвокатом беднейшего квартала, становятся законодателями, государство оказывается на пороге своей кончины, пусть даже оно еще «не бреет бороды» по своей молодости.
В свободной стране слово также должно быть свободным, и государство должно внимать бормотанию глупцов, трескотне пустых сорок-говорунов, реву всех ослов общества так же, как и перлам мысли величайших и мудрейших своих граждан. Даже самые деспотичные из правителей прошлого позволяли своим шутам говорить то, что те думали. Настоящий алхимик извлечет уроки Мудрости и из бессвязного бормотания Невежества. Он услышит то, что хотел бы сказать говорящий даже в том случае, если тот окажется в итоге своей речи королем глупцов в глазах всех своих слушателей. И глупец иногда попадает своим словом точно в цель. Иногда Истина содержится и в словах тех, кто, будучи не в состоянии по недостатку образованности оперировать чужими мыслями, развивает ход своих. Даже перст полного невежды может указать верный путь.
Народы, как и мудрецы, должны учиться забвению. Если они не учатся новому и не забывают старое, дни их сочтены, пусть они и процветали веками. Разучиваться – значит, учиться; иногда, кроме того, необходимо заново учиться ранее забытому. Глупости прошлого помогают лучше понять ошибки настоящего точно так же, как карикатура, доводящая до гротеска безвкусную современную моду, служит скорейшему ее забвению.
Шуты и фигляры хороши и полезны на своем месте. Вдохновенный художник и мастеровой – такой, например, как Соломон, – извлекают из Земли материалы для своих работ, превращая несовершенную материю в блистательные произведения искусства. Головой мир можно покорить гораздо скорее, чем руками. И никакие дебаты в любом общественном собрании не могут длиться вечно. Со временем, выслушав достаточно речей, оно само выделяет из своих рядов всех неумных, поверхностных и предубежденных, перестает прислушиваться к их мнениям, потом думает само – и приступает к работе.
Человеческая мысль, особенно в общественном собрании, течет по невообразимо извилистым и неровным руслам, и проследить ее путь труднее, нежели неисчислимые течения мирового океана. Ни одно мнение не может оказаться достаточно абсурдным, чтобы не найти там места для себя. Истинный мастеровой должен подступать к этим предрассудкам вооруженный своим тяжелым двуручным молотом. Они разлетаются прочь с его дороги; они бегут во мрак под быстрыми как молния взмахами его меча; но вместе с тем, они неуязвимы для логики, и нет у них ахиллесовой пяты. С предрассудками должно сражаться кистенем и булавой, боевой секирой и обоюдоострым двуручным мечом; рапира здесь не полезнее дамского веера, если это, конечно, не рапира насмешки.
Меч – это также символ войны и воина. Войны, как и грозы, необходимы для того, чтобы время от времени очищать застоявшуюся атмосферу. Война – не демон, лишенный сочувствия и угрызений совести. В языках ее пламени возрождается братство. Если народ засиживается в мягких креслах, утопает в покое и бездействии, а лень, бессилие и ничтожество занимают в государстве ведущее положение, война – это крещение огнем и кровью, в котором и только в котором народ может возродиться для новой жизни.
В воззвании народов к Богу содержится признание Его всемогущества. Оно зажигает огни на маяках Веры и Свободы и согревает честных и верных в их следовании к бессмертию и славе. В войне есть все: угроза поражения, непримиримое чувство долга, будоражащее кровь сознание чести, бесчисленные священные жертвы и счастье победы. Даже в огне и дыму сражения должен масон найти своего брата и исполнить священные обязательства, возложенные на него Братством.
Число 2, или Диада, – это символ вечного антагонизма Добра и Зла, Света и Тьмы; это Каин и Авель, Ева и Лилит, Яхин и Боаз, Ормузд и Ариман, Осирис и Тифон.
Число 3, или Триада, лучше всего представлено в равностороннем или прямоугольном треугольниках. В радуге содержатся три основных цвета, которые в своих сочетаниях дают всего семь. Эти три суть зеленый, желтый и красный. Тройственность Бога в той или иной форме признается практически всеми вероисповеданиями. Он творит, сохраняет и уничтожает. Он есть созидательная сила, производительная способность и общий итог. По Каббале, внематериальный Человек состоит из жизнеспособности, или жизни, дыхания жизни; из души, или разума; и из духа. Соль, сера и ртуть были величайшими символами для алхимиков, для которых человек также состоял из тела, души и духа.
Число 4 выражается в квадрате, или четырехугольнике с прямыми углами. Из символического Эдемского сада вытекала река, разделявшаяся на четыре потока: Писон, который огибал земли Золота, или Света; Гихон, омывавший Эфиопию, или Землю Тьмы; Хидеккель, убегавший своими водами на Восток, в Ассирию, и Евфрат.
Захария узрел четыре колесницы, пронесшиеся меж двух бронзовых гор: первая из них была запряжена красными конями, вторая – черными, третья – белыми, а четвертая – серыми: «это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли».
Иезекииль видел четверых живых существ, у каждого из которых было по четыре лика и по четыре крыла, и то были лики человека, льва, вола и орла, и с четырех сторон было у них четыре колеса
; а Св. Иоанн увидел четырех зверей, исполненных очей и спереди и сзади: Льва, молодого Вола, Человека и парящего Орла
. Четыре всегда было знаком Земли. И далее, в 148-ом псалме, тех, кто должен славить Господа на земле, перечислено четырежды четыре и, в частности, четыре живых существа. Видимая природа обычно описывается как «четыре четверти мироздания» или «четыре конца света».
«Четверо, – гласит древняя иудейская мудрость, – царят в мире: человек – над всеми живыми существами, орел – над птицами, вол – над скотом, лев – над дикими зверьми». Даниил видел четверых огромных зверей, выходящих из моря.
Число 5 – это сумма Диады и Триады. Это число находит свое отражение в пятиконечной, или Пламенеющей, Звезде, или таинственной Пентальфе Пифагора. Пять неразрывно связано с семью. Христос накормил своих учеников и прочих голодающих пятью хлебами и двумя рыбами, и после этой трапезы объедков набралось двенадцать – то есть пять плюс семь – коробов. В другой раз он накормил их семью хлебами и несколькими рыбами, а объедков осталось семь коробов. Пять мелких планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – в сочетании с двумя крупными – Солнцем и Луной – составляют семь небесных сфер.
Число 7 – особенно священное число. Семь планет олицетворяют семь небесных сфер, управляемых семью архангелами. В радуге семь цветов. Финикияне называли свое верховное божество Гептаксис, то есть Господь Семи Лучей. В неделе семь дней, а если сложить семь и пять, то получится число месяцев года, колен рода иудейского, апостолов. Захария узрел в своем видении золотой светильник с семью ветвями и семью огнями, и с оливковыми деревьями по обе стороны. «Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей, – пишет он, – ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?»
Иоанн в своем «Откровении…» пишет семь посланий семи церквам. В этих семи посланиях содержатся двенадцать пророчеств. Что бы ни говорил он этим церквам, в похвалу ли, в укор ли, укладывается в три фразы. Рефрен «Имеющий уши слышать, да услышит» состоит из десяти слов, то есть суммы трех и семи, а семь, в свою очередь, – это сумма трех и четырех; это можно увидеть во всех семи посланиях. В той части этого же текста, где говорится о печатях, архангеловых трубах и казнях, семь также раскладывается на три и четыре. Отсылающий послание в Эфес – это «Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников».
В шесть дней, или сроков, Господь создал Вселенную и снизошел до отдыха на седьмой день. Ною было повелено взять с собой в ковчег семь пар тварей чистых и семь нечистых. Через семь дней потоп должен был прекратиться. Дождь пошел на семнадцатый день месяца, и в семнадцатый день седьмого месяца ковчег пристал к горе Арарат. Когда же посланный голубь вернулся, Ной прождал семь дней перед тем, как послать его снова вперед, и опять же прошло семь дней, прежде чем тот вернулся с оливковой ветвью в клюве. Енох был седьмым патриархом, включая Адама; Ламех же прожил семьсот семьдесят семь лет.
В большом светильнике Скинии, а позднее Храма, было семь огней, представлявших собой семь планет. Семь раз Моисей окроплял алтарь священным елеем. Семь дней проходило очищение Аарона и его сыновей. Женщина считалась нечистой после деторождения тоже семь дней; зараженный проказой семь дней содержался в карантине; семь же раз его окропляли кровью жертвенного петуха; и еще семь дней он не имел права входа в свой шатер. Очищая прокаженного, священнослужитель семь раз должен был окропить его елеем, а очищая его дом – тоже семь раз – кровью жертвенного петуха. Кровь жертвенного быка тоже семь раз вспрыскивала Ковчег Завета, а затем – алтарь. Каждый седьмой год считался праздничным, а каждый семижды седьмой – юбилейным. В месяц Авив семь дней ели пресный хлеб.
Семь недель отсчитывалось с момента первого прикосновения серпа к злакам. Праздник Кущей длился семь дней.
Израиль пробыл в мидийской земле семь лет, пока Гедеон не освободил его. Бык, которого он принес в жертву, был семи лет от роду. Самсон повелел Далиле обвязать его семью зелеными лозами, а она накручивала на свои пальцы семь прядей его волос, которые после безжалостно отрезала. Валаам повелел Валаку возвести для него семи алтарей. Иаков был в услужении семь лет за Лию и семь – за Рахиль. У Иова было семеро сыновей и три дочери, что вместе составляет десять, число Совершенства. Кроме того, у него было семь тысяч овец и три тысячи верблюдов. Друзья его просидели у его одра семь дней и семь ночей. Его же друзьям далее повелено было принести в жертву семь быков и семь телят; и в конце концов у него снова народилось семь сыновей и три дочери, а овец у него стало дважды по семь тысяч, а прожил он сто сорок лет, что составляет ровно два раза по семижды десять. Фараон увидел в своем сне семь коров тучных и семь коров тощих, семь колосьев плодоносных и семь холощеных, и было семь лет голода и семь лет изобилия. Иерихон пал после того, как семеро священнослужителей с семью трубами семь дней обходили город вокруг; шесть дней – по одному разу и семь раз – на седьмой день. Захария пишет, как уже говорилось, что семь очей Господних озирают всю Землю вглубь и вширь. Соломон семь лет строил свой Храм. В Апокалипсисе семь архангелов исторгают семь великих казней из раструбов семи своих труб. Зверь алый, на котором восседает Жена, «ужасная, как развернувшееся к битве войско», имеет семь голов и десять рогов. То же и у зверя, поднимающегося из волн морских. Семь громов гремят в одночасье. Семеро архангелов трубят в семь труб. Семь огненных светильников, семь духов Божьих, горят перед престолом, а у Агнца жертвенного – семь рогов и семь глаз.
Восемь – это первый куб, куб двух.
Девять – это квадрат трех и изображается в виде тройного треугольника.
Десять включает в себя все прочие числа. В особенности же – семь и три. Оно носит название числа Совершенства. Пифагор изображал его в виде Тетраксиса, который до сих пор не раскрыл еще всех своих таинственных значений. Этот символ иногда состоит из точек, иногда из запятых или литер Йод; в Каббале – из букв Имени Господня, расположенных следующим образом:
Начиная от Адама и заканчивая Ноем, насчитывается ровно десять патриархов; столько же и заповедей Моисея.
Двенадцать – это число линий одинаковой длины, которые образуют куб. Это число месяцев года, колен рода Израилева, апостолов, быков Медного моря и драгоценных камней на грудной пластине первосвященника.
u
3
Tе Maser
Мастер
Буквально понимать символы и аллегории писаний древнего Востока – это значит, по доброй воле закрывать глаза на истинный Свет. «Переводить» эти символы на современный язык простыми, тривиальными словами – значит, служить знамени воинствующей посредственности.
Любое религиозное выражение символично, ибо мы можем описать только и лишь то, что видим, и истинным предметом религии является ранее виденное. Одним из самых ранних орудий образования были символы; они и все остальные формы религиозного выражения всегда различались и различаются поныне по внешним обстоятельствам и условиям и по уровню знаний и умственной утонченности. Символичен любой язык, коль скоро он всегда применяется к описанию духовных и умственных феноменов и действий. Изначально все слова имеют материальное, предметное значение, хотя впоследствии могут приобретать для необразованных и недальновидных вид духовной бессмыслицы. «Развести руками», например, означает совершить ими некое определенное движение по дуге; но если это словосочетание употребляется для обозначения бессилия что-либо сделать, то оно приобретает символическое значение, которое приобретается одновременно и самим вышеописанным жестом. Само слово «дух» (лат. "spiritus”) означает «дыхание» и происходит от латинского глагола "spiro” – «дышу».
Представить видимый символ на обозрение другому – не обязательно означает сообщить ему то значение этого символа, которое он имеет в ваших собственных глазах. Отсюда для философа становится ясна необходимость сопроводить видимый для глаза символ объяснениями его значения, адресованными уху, которые более точны и аккуратны, но гораздо менее впечатляют, чем живописный или скульптурный образ, который он горит желанием растолковать.
Из этих пояснений постепенно, со временем, выросло множество толкований, первичные, истинные значение и смысл которых были в конечном итоге забыты или затерялись в несоответствиях, неточностях и противоречиях. Когда на них совсем перестали обращать внимание и философия пала до состояния простого нагромождения определений и формул, ее язык сам по себе стал во много раз более сложной символической системой; шаря в темноте, она с тех пор безуспешно пытается охватить и отобразить предметно абстрактные идеи, которые невыразимы по своей сути. Ибо со словом дела обстоят точно так же, как и со зримым символом: сказать его кому-либо – не значит сообщить ему тот же смысл, который в это слово вкладывали вы; исходя из этого, религия, как и философия, в значительной степени превратилась в бесконечную дискуссию о значении и смысле слов. Наиболее абстрактное отображение Бога, которое может обеспечить человеческий язык, – это знак или символ, замещающий собой нечто пребывающее вне нашего понимания и не более верный и соответствующий действительности, чем, например, образы Осириса и Исиды или их имена, он лишь менее ярко и чувственно выражен. Избежать чувственного выражения чего-либо мы можем, лишь опустившись до однозначного и абсолютного отрицания. Задавшись целью дать определение духа, мы в итоге всех трудов приходим лишь к тому утверждению, что дух – это то, что не есть материя. То есть дух – это дух.
Всего лишь один пример символизма слов укажет вам одно из направлений масонских изысканий. В Английском Уставе можно прочесть следующую фразу: «Клянусь всегда умалчивать (hail), скрывать (conceal) и никогда не открывать (never to reveal)…»; и еще в Катехизисе: «В.: "Я умолчу" (I hail);
О.: "Я скрою" (I conceal)».
А общее недопонимание этой фразы происходит из-за наложения на ритуальное общеупотребительного: "From whence do you hail?” («Из какого рода Вы происходите?»).
Но в нашем случае данное слово в действительности изначально выглядело как "hele”, от древнеанглийского "hoelan (helan)” – «покрывать, прятать, скрывать». На латынь этот глагол переводился как "legere”, т. е. «покрывать, крыть (крышу)». В суссекском диалекте слово "heal” в значении «крыть крышу» общеупотребительно; на западе Англии кровельщиков называют "healers”. Следовательно, наше "hail” здесь означает «скрывать, покрывать, умалчивать». Язык – тоже символ, и его слова могут быть так же неправильно поняты или истолкованы, как и визуальные символы.
Со временем символизм всегда усложнялся; все силы небесные воспроизводились сами по себе на Земле, пока не сплелась целая паутина аллегорий и вымысла, отчасти по милости Царственного Искусства, отчасти в силу людских невежественности и суеверий; и эту паутину человеческому разуму с его ограниченными возможностями к объяснению уже никогда не суждено распутать. Даже иудейский теизм не выдержал испытания символизмом и поклонением образу; последние же, вероятно, были заимствованы, у более древних религиозных концепций и из других, более отсталых, областей Азии. Поклонение великому семитскому Богу Элю, или Алсу, и его символическому отображению в Самодостаточном Иегове не было отдано на откуп поэтическому или изобразительному языку. Священнослужители были монотеистами, народ – идолопоклонником.
Существует ряд опасностей, неотделимых от символизма, которые представляют собой впечатляющий урок, если учесть, что подобному же риску мы подвергаемся, пользуясь самим языком. Воображение, призванное на помощь рассудку, либо полностью занимает его место, либо оставляет его, беспомощного, опутав своими сетями. Имена, присваиваемые вещам, начинают путать с ними самими; средства путают с целью; вариант толкования – с его объектом; а символ захватывает власть над независимым разумом, принимая обличье разнообразных истин и личностей. Возможно, это и необходимый, но уж очень опасный путь к Богу, на котором многие, как утверждает Плутарх, «путая знак с обозначаемой вещью, впали в сожаления достойные суеверия, в то время как другие, избежав этой крайности, ударились в не менее отвратительные безверие и атеизм».
Именно через Мистерии, говорит Цицерон, мы постигли первые жизненные принципы, откуда следует, что термин «инициация» глубоко обоснован и продуман; они не только учат нас более честной и счастливой жизни, но и смягчают душащую боль смерти надеждой на лучшую жизнь после нее.
Мистерии были священными представлениями, отображающими некие легенды, значимые для понимания сути изменений в п рироде, в видимой Вселенной, в которой находит свое раскрытие сущность Божественного; участие в них отражалось на мироощущении как язычников, так и христиан. Природа – великая наставница человека, ибо она и есть откровение Божие. Она никогда не предлагает нерушимых догм и не пытается принудить к принятию какой-либо определенной концепции веры или к какому-либо истолкованию. Она предлагает нам свои символы, не объясняя их. Это текст без комментария, а ведь мы все хорошо знаем, что именно глоссы, комментарии ведут к заблуждениям, предрассудкам и ересям. Древнейшие учителя человечества не только восприняли уроки Природы, но и насколько могли последовательно передавали их своим ученикам теми же способами, какими сами получили их. В ходе Мистерий, кроме непрерывной традиции священных ритуальных чтений в святилищах таинственных текстов, зрителям почти не предлагалось никаких пояснений, и им приходилось, как в школе самой Природы, делать выводы самостоятельно. Никакой другой метод не способствовал бы в той же мере развитию всех способностей и умений. Использование универсального природного символизма вместо тонкостей и опосредованностей языка сторицей вознаграждает даже самого скромного исследователя, открывая ему все тайны мира в той степени, в которой ему хватает предварительной подготовки и возможностей понять и осознать их. Если даже философское их значение многими может быть непонято или недопонято, то нравственное и политическое доступны всем и каждому.
Эти мистические чтения и представления не были подобны лекциям – скорее, постановке вопроса. Подразумевая его дальнейшее исследование, они рассчитаны были на пробуждение дремлющего интеллекта. Они не были чужды философии, ибо философия сама по себе есть величайшая толковательница символизма, хотя ранние ее выводы зачастую неверны или слабо обоснованы. Переход от символа к догме фатален для красоты выражения и ведет к нетерпимости и ни на чем не основанной самоуверенности.
u