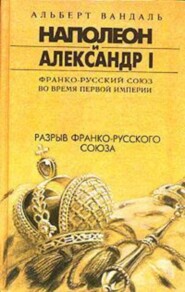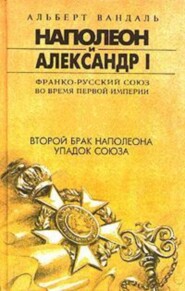По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Тильзита до Эрфурта
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Император. Я понимаю вас: то, что вы говорите, справедливо. При таком способе обсуждения дел всегда можно сговориться. Письмо Толстого меня огорчило. Я не могу дать согласия на такую сделку, которая не согласуется с намерениями, высказанными мне самим Императором.
Посланник. Государь, когда Толстой подольше пробудет при Императоре, он станет передавать сделанные ему предложения в их истинном свете.
Император. Вот потому-то мне и приятно, что Император выбрал именно вас. Вы лучше других понимаете, чего он хочет, и мы всегда поймем друг друга.
Посланник. Благоволите, Ваше Величество, сообщить ваши мысли своему посланнику. Император, мой повелитель, ничего не желает лучшего, как только установить свои действия согласно с действиями Вашего Величества. Император готов на все: его заветные мысли направлены всецело к интересам и славе Вашего Величества. Имею честь повторить это вам. Позволите ли вы мне, Ваше Величество, вернуться к одному из вопросов настоящего разговора?
Император. С удовольствием.
Посланник. Мне хотелось, Государь, познакомить вас с истинными намерениями моего повелителя, с этого я и начал. Теперь я должен сказать относительно его интересов. Компенсации в Турции, о которых говорит Ваше Величество, нужно еще завоевать, тогда как вы, Ваше Величество, нарушив тильзитский договор и обусловленное им перемирие, уже взяли себе свою долю. Нам нужно сражаться, чтобы завоевать свою долю, и опять-таки сражаться, чтобы сохранить ее. В этих провинциях нет никакой торговли и ни одной из тех выгод, какие приобретет Ваше Величество. Если Вам угодно будет вполне беспристрастно взвесить условия, в которых находятся то и другое государство, вы не будете более сомневаться, что положение Франции относительно Турции было бы тем же самым, что и положение России относительно Пруссии, если бы добрые чувства императора Наполеона к императору Александру не склоняли весов на вашу сторону.
Император. Это возможно. Вы хорошо изображаете дело. Но я все-таки ссылаюсь на то, что мне говорил император Наполеон. Я шел навстречу всем его желаниям. Его интересы лежали в основе моего поведения. Я оставил в стороне мои собственные, ибо до сих пор не имею никаких известий о моем флоте. Я жду, чтобы на деле сказалась та истинная дружба, в которой он дал мне слово, доказательства моей дружбы он уже имеет. Я не могу войти в сделку, о которой между нами никогда не поднималось вопроса и которая разорит короля, и так уже так много потерявшего. Пусть он будет восстановлен во владении всем тем, что полагается ему по тильзитскому договору, и по поводу чего Император сказал, что отдает ему ради меня. Затем пусть будет то, что Богу угодно. Я лично нисколько не сомневаюсь в намерениях Императора, но здесь, у нас, нужно доказать бы нации и армии, что наш союз существует не только ради вашей выгоды. В ваших интересах сделать его национальным; говорю вам откровенно, это было бы даже услугой лично для меня. Судя по тому, что говорил мне Император в Тильзите, мнение его о турках не таково, чтобы заставить его ими дорожить. Он сам назначил нашу и свою долю – и что-нибудь дать Австрии, чтобы удовлетворить скорее ее самолюбие, чем честолюбие – таковы были его намерения. Они не должны измениться, ибо с тех пор я шел навстречу всему, чего он мог желать. Что же касается завоеваний, которые предстоит ему сделать, мои войска будут готовы, если он вернется к своим первоначальным намерениям. Турки первые нарушили перемирие. Следовательно, если бы я не относился добросовестно к Императору, у меня был бы предлог порвать с ними, не нанося ущерба тильзитскому договору.
Посланник. Сделки, о которых говорит Ваше Величество, как мне кажется, входят в круг тех сделок, переговоры о которых вы и мой Император отложили до личного свидания. Если турки и обошлись дурно с некоторыми валахами, так ведь они пока еще их подданные. И Пруссия, в свою очередь, не всегда соблюдала меру и была внимательна, хотя это и требовалось от нее мирным положением; но такие пустяки, которые относятся скорее к ведению полиции, чем политики, не могут иметь влияния на громадные интересы, связывающие нас.
Император. Я отправил инструкции Толстому, как вы могли это видеть из моего разговора с генералом Савари. Император, вероятно, пришлет вам инструкции, составленные на основании депеш, отправленных с Фодоа. Мы часто будем беседовать и поймем друг друга. Нам следует обдумать, что делать весной, если англичане будут угрожать нашим берегам. Моя армия уже укомплектована и может действовать либо против англичан, либо против шведов.
Посланник. Император, наверное, всеми своими силами поможет Вашему Величеству, и в нужную минуту французская и датская армии будут в готовности вступить в Сканию,[264 - Южная провинция Швеции.] если это потребуется для поддержки операций Вашего Величества.
Император. До свидания. Очень рад, что побеседовал с вами (и, пожав мне руку, сказал): объясняясь подобным образом, всегда можно сговориться”.[265 - Донесение от 23 декабря 1807 г. По странной случайности это донесение находится в архивах министерства иностранных дел России, 144.]
В результате, что доказывал этот разговор, законченный словами доверия и надежды, и какой вывод мог сделать из него Коленкур? Императору, видимо, очень понравились его благоразумная речь и умение с достоинством держать себя: можно было думать, что они ослабили тягостное впечатление, произведенное Толстым на ум государя. Но изменили ли они его взгляд на самое существо дела? В этом позволительно было сомневаться. Александр смягчился, но вовсе не был убежден. Чтобы выведать его мнение по всем пунктам, Коленкур осторожно коснулся в предписанном ему порядке тех трех способов решения восточных затруднений, между которыми надлежало сделать выбор. Он заговорил о таком мире с Турцией, при котором все осталось бы по-прежнему – об этом не хотели и слышать. Дважды он вскользь намекнул на предоставление княжеств за Силезию. Тогда он наткнулся на любезное, но упорное сопротивление. Оказалось, что из всех возможных решений только что придуманное Наполеоном больше всего противоречило чувствам царя. Наконец, истощив все доводы и ничего не добившись, посланник допустил возможность принятия некоторых соглашений при личном свидании императоров, а это значило согласиться на разделе, – и по манере, с которой Александр наводил на это неопределенное обязательство, с которой заставлял дать его, легко можно было угадать, что он ничего не уступит из своих требований. Он хотел расчленить Турцию или, по крайней мере, отнять у нее часть ее владений и не хотел жертвовать Пруссией; вот что вытекало из его слов и замалчиваний. Коленкур поспешил сообщить в Париж о решении, которое, по его мнению, он обнаружил в уме царя и которое после разговора с Румянцевым он уже предчувствовал.[266 - Письмо к Шампаньи от 23 декабря 1807 г.] Тем не менее он отложил свое окончательное суждение, просил дать ему немного времени, чтобы осмотреться, лучше разгадать Александра и затем уже, согласно полученному впечатлению, высказать свое мнение.
Другие обязанности на время отвлекли его от этого дела. Он должен был не только вести переговоры, но и представительствовать. Упрочив за собой доверие государя, он должен был победить общество. Прежде всего он хотел произвести впечатление на умы и заставить уважать себя, а затем уже позаботиться о том, чтобы сделаться приятным; поэтому он был крайне неуступчив по вопросам о своих прерогативах. На первом же приеме дипломатического корпуса он смело пошел впереди австрийского посланника, которому в течение целого века принадлежало старшинство; его смелость была одобрена свыше: “Эти французы, – улыбаясь, сказал Александр, – всегда проворнее австрийцев”.[267 - Донесение Коленкура от 26 февраля 1808 г.] Вечером, в тот же день, на большом балу у императрицы-матери уже сами пошли навстречу желаниям нашего посла: ему во всем предоставлялось первенство. Он явился на этот бал в полном блеске своего звания, окруженный настоящим двором из гражданских и военных чинов. Первые его выезды в свет произвели сенсацию. Его изящная осанка, гордое и вместе с тем утонченно-вежливое обращение были оценены по достоинству, – ему были благодарны за его старания подражать тону и манерам старого французского общества. Не отказываясь от некоторой сдержанности, большинство знати не объявило ему заранее войны и не уклонилось от знакомства с ним, как это было с Савари. Даже женская оппозиция перестала быть непримиримой, и посланнику казалось, что умилостивить ее будет делом внимания и предупредительности: “Я танцевал с самыми непримиримыми, – писал он, – а остальное сделает время”.[268 - Донесение от 26 декабря 1807 г.]
“В свете мое положение вполне прилично”, – добавлял он немного позднее; при дворе он считал его “превосходным”.[269 - Письмо к Шампаньи, от 25 февраля 1808 г.] И в самом деле, всякое официальное торжество служило поводом для оказания ему все больших почестей и для того, чтобы доставлять ему нравственное удовлетворение. 1 января – день большого бала в Зимнем дворце, на который было приглашено четырнадцать тысяч человек, и на который дамы явились в живописных национальных костюмах, осыпанных жемчугом и бриллиантами, ужин был сервирован в зале Эрмитажа, превращенный ради этого в феерический дворец. Коленкур занимает место за столом высочайших особ, под хрустальным сводом, блещущим тысячами огней. Несколько дней спустя у императора состоялся бал для узкого круга приближенных. Вопреки обычным правилам церемониала французское посольство получило на него приглашение. За ужином стол был сервирован одним из севрских сервизов, присланных Наполеоном: “Император, обе императрицы и принцесса Амелия, – писал Коленкур, – пользовались всяким удобным случаем, чтобы похвалить как его рисунок, так и вкус, с которым он выбран, и неоднократно говорили посланнику об удовольствии, которое они испытывают, пользуясь вещами, присланными императором”.[270 - Письмо к Шампаньи, от 10 января, 1808 г.]
На другой день после этих балов царь и генерал встречались на параде перед фронтом войск. Национальная гордость Коленкура была польщена, видя что побежденный, как это неизменно бывает после несчастной войны, до мелочей подражал маршировке и выправке победителя: “Все на французский образец, – писал он, – шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупея вместо пояса у солдат; музыка на французский лад, марши французские, ученье тоже французское”.[271 - Feuille de nouvelles, janvier. 1808.] Во время смотров Александр постоянно обращался к нашему послу и часто приглашал его обедать. Эта честь оказывалась Коленкуру по нескольку раз в неделю, а после обеда государь приглашал его в свой кабинет, и разговор продолжался без докучных свидетелей.
Тогда Александр становился сообщительным и обаятельным; роли менялись, и теперь уже монарх, видимо, желал приобрести расположение посланника. Он ничем не пренебрегал, чтобы понравиться ему. Зная, что Коленкур чуть не молился на Наполеона, он высказывал безграничный восторг перед великим человеком, не забывая, однако, любезных комплиментов по адресу посланника: “Кстати, генерал, – внезапно сказал он ему, – вы имели большой успех в высшем обществе, вы одержали победу над самыми непримиримыми… Благодаря вашему обращению, у нас все cделаются французами”.[272 - Донесение, приложенное к письму Коленкура от 31 декабря 1807 г.] Коленкур был обрадован такой похвалой, воздаваемой его светским талантам. Затем шли откровенные излияния души, которые исходя из высочайших уст, так приятно щекочут самолюбие простого смертного, ибо сокращают расстояние и на время уничтожают разницу между ним и его высоким собеседником, допуская видеть в государе только человека. Всякий раз, когда дело не касалось интересов его государства, Александр любил проверять свои тайны, и, так как он был сердечно расположен к Коленкуру, такт, скромность и прямоту которого ценил, он посвящал его в свои задушевные радости и треволнения; он не задумываясь, поведал ему свою сердечную тайну. Как сильно увлекающийся человек, он не мог не поддаться искушению говорить о своих любовных связях и об особе, которая создала для него семейный очаг, “о влечении, которое постоянно приводило его к Н… хотя бы он мимоходом и увлекался некоторыми другими; о ревности, которая ни к чему не ведет и ни от чего не ограждает; об удовольствии любоваться, как растут маленькие детки, которых любишь. “Есть в жизни минуты, говорил он, когда чувствуешь потребность не быть государем; особенно приятно быть уверенным, что вас любят ради вас самих, что расточаемые вам внимание и ласки – не жертва, которая приносится из честолюбия или корыстолюбия”.[273 - Донесение, приложенное к письму Коленкура от 26 января 1808 г.]
Затем, возвращаясь к Наполеону и не меняя темы разговора, он сказал: “Мне жаль его, если у него нет предмета любви; это приятный отдых после больших трудов. Он необходим ему, невзирая на то, что он слишком умен, чтобы увлекаться чувством”.[274 - Письмо Коленкура к императору, 4 апреля 1808 г.] Он выразил желание познакомиться с частной жизнью императора. С любопытством друга он постоянно расспрашивал о нем и, таким образом, давал доказательства, что интересуется не только славой, но и личным счастьем своего союзника. Наконец, желая польстить самому щекотливому из всех чувств Коленкура, чувству сердечного тщеславия, и, зная, что Коленкур оставил во Франции особу, к которой питал нежные чувства и настойчиво стремился к женитьбе,[275 - Коленкуру в это время было 34–35 лет.] к чему существовали препятствия, он, по-видимому, одобрял его выбор и желал ему успеха: “И у вас, генерал, – добавил он, – будет предмет. Может быть, она приедет?”.[276 - Письмо Коленкура к императору, 4 апреля 1808 г.]
Чувствительное и нежное сердце Коленкура было беззащитно против такого способа обращения. Он принадлежал к числу тех людей, которые не в состоянии противостоять знакам искреннего участия и любят за то, что их любят. Анекдот, распространившийся некогда на его счет в парижском обществе, метко обрисовывает его в этом отношении. Рассказывали, что Коленкур, сильно ухаживавший за женщинами и мастер этого дела, не обратил внимания только на одну особу, хотя не менее других достойную любви. Она затаила в себе чувство горькой обиды и не щадила в своих разговорах блестящего офицера, все преступление которого состояло в том, что он был к ней равнодушен. Узнав о ее вражде, Коленкур придумал самый благородный и самый остроумный способ отомстить ей. С этих пор не было той предупредительности, того внимания и тех знаков нежных чувств, которых бы он не оказывал той, которая объявила себя его врагом. Он так искусно вел дело, что эта особа не только отказалась от своих предубеждений, но воспылала к нему страстной любовью и не скрывала этого от него. Его торжество было полным; даже чересчур. В самом деле польщенный и тронутый переменой, происшедшей в сердце, которое теперь беззаветно ему отдавалось, он не мог устоять и не разделить чувства, которое сам внушил и не на шутку полюбил свою победу. Если исключить вражду, с которой началось это похождение, оно представляет некоторое сходство в отношениях, установившихся между Коленкуром и императором Александром. Получив приказание понравиться русскому государю и стараясь добросовестно его выполнить, генерал вполне достиг этого, но в то же время его поразили благородные, великодушные, даже поэтические стороны характера царя, благодаря которым тот возвысился в его глазах, и он восторженно и прочно привязался к нему. Однако было бы крупной ошибкой думать, что его привязанность к человеку имела влияние на его суждение о главе России. В этом отношении его неусыпное усердие и здравый, утонченный ум предохраняли его от всякого заблуждения и давали ему возможность всегда с удивительной проницательностью оценивать русскую политику; он считал вопросом чести при всяком обстоятельстве, угрожающем делу Наполеона, своевременно усматривать опасность и указывать на нее. Наоборот, близкие отношения, в которых он был с Александром, служили ему для непосредственного изучения и лучшего понимания царя и давали возможность с успехом влиять на его ум, нередко рассеивать его сомнения и надолго сохранить его доверие. Даже его склонность приписывать царю возвышенные чувства в большей мере, чем это было в действительности, и, не довольствуясь оценкой благородных качеств, увлекаться им иногда до признания за добродетель его милостивое обращение, были ему небесполезны для того, чтобы лучше понимать и заранее предвидеть ход мыслей государя, который любил выставлять на вид, что во всех своих поступках он руководствуется законами чести и благородными чувствами.
Так, в частной жизни, особенно в деле привязанности, Александр казался ему рыцарем – слово, которое он любил повторять. В нем укрепился взгляд в сущности очень верный, что русский император никогда не пожертвует несчастным союзником, что Пруссия останется для него “святая святых”.[277 - Коленкур к императору, 31 декабря 1807 г.] Естественно напрашивалась такая мысль: если царь более всего дорожит тем, чтобы обеспечить Пруссии возврат ее владений, то для достижения этой цели он располагает чрезвычайно простым средством – ему стоит только отказаться от турецких провинций, и Наполеон, связанный формальными обещаниями, будет лишен возможности оставить за собой Силезию. Но Коленкур полагал, что для отступления на Востоке царь не обладал уже полной свободой действий и, что нечто вроде состоявшегося договора с подданными налагало на него долг отстаивать свои требования.
Из разговоров, слышанных им в петербурских салонах, и из оказанного ему в них приема посланник мог вывести следующие заключения: русское общество, сопротивление которого против политики Александра до сих пор выражалось открыто, изменило тактику. Теперь оно подобралось, молчало, приняло выжидательное положение и, прежде чем высказать окончательное суждение о союзе с Францией, ожидало его плодов. Царь лично завел речь о таком перемирии. Предпочитая лучше жить в мире, чем бороться с представителями оппозиции, он не скрыл от них, какие надежды заронил в нем Наполеон. За их покорность он обещал им обширные завоевания на Востоке: а так как такая перспектива имела дар ослепительно действовать на все умы, то общественное мнение, приняв к сведению царские слова, ждало, чтобы течение событий оправдало или опровергло их. Если выгоды, о которых говорил царь, осуществятся, если границы России без кровопролития расширятся до Дуная или даже перейдут за него – тогда враждебные отношения прекратятся и настанет окончательный мир. Наоборот, если ожидаемый результат заставит себя ждать, если Франция даст повод усомниться в ее искренности, за которую ручался Александр, тогда Александр тотчас же увидит, что против его политики и даже лично против него с удвоенной силой возобновятся нападки, тем более нестерпимые, что он будет сознавать их справедливость. Он вынесет из этого опыта убеждение, что попал в западню, и, быть может, его власть и даже жизнь подвергнутся опасности; во всяком случае пострадает его царственный престиж, сам он будет унижен и скомпрометирован в глазах его подданных, и в силу его законной обидчивости он никогда не простит императору французов такого страшного оскорбления. Таким образом, Коленкур находил, что вопрос, сойдя с политической почвы и перейдя на почву гораздо более щекотливую, на почву личного самолюбия и вопросов чести, принимал угрожающую остроту. По его мнению, наступило время, когда императору следует окончательно привязать к себе Александра под опасением потерять его навсегда. Тогда в силу своей беспредельной преданности, рискуя попасть в немилость, он заговорил откровенно и хотел сообщить своему повелителю всю правду в том виде, как она являлась перед ним. Он сделал это в трогательных, смелых и сильных выражениях:
“Государь, – писал он императору 31 декабря, – союз России с Вашим Величеством и, в особенности, война с Англией перевернули в ней вверх дном все понятия. Это, в некотором роде, перемена веры”. Затем посланник объясняет, что Александр считает делом своей чести доставить русским приобретения на Востоке за те жертвы, которые налагает на них война с Англией: “Вот его положение, – добавляет он, – или говоря точнее, его затруднительное положение, ибо его рыцарская честь закрывает ему тот выход, который Ваше Величество предлагает ему в Пруссии… Конечно, если чувства и мысли императора не изменятся, он восторжествует над всеми препятствиями. Но если он сочтет себя обманутым, если его министр, мечтающий связать свое имя с славными завоеваниями, сочтет себя одураченным тем, что доверчиво отнесся к тому, что торжественно возвестил ему его император, невозможно определить те последствия, к каким его приведут его размышления”.[278 - Письмо от 31 декабря 1807 г.]
Некоторое время спустя, лучше уяснив себе дело, Коленкур признал, что побуждения, которыми руководствовался Александр как при своем отказе, так и в своих требованиях, не были исключительно сентиментального свойства. Царь упорно отказывал нам в Силезии не столько из сострадания или симпатии к Прусскому дому, сколько в силу неустанной заботы об интересах России. Александр и Румянцев сразу же поняли, что Наполеон предназначал Силезию для усиления герцогства Варшавского. Подпав, несмотря ни на что, под влияние зловещих предсказаний Толстого и при том веря всякому слуху, отвечавшему их тайным опасениям, они боялись, чтобы присоединение Силезии к герцогству Варшавскому не положило начала полному возрождению Польши. Приписываемая ими Наполеону мысль о восстановлении Польши показалась им теперь не как случайное, преходящее желание, а как твердо принятое намерение, близкое к осуществлению. Их подозрения приняли определенную форму, смутные опасения превратились в смертельную тревогу, и в результате, благодаря созданию герцогства Варшавского быстро расцвел, благодаря обстоятельствам, созревший зародыш раздора, внедрившийся между двумя государствами. Хотя русский император и его министр постоянно говорили о Пруссии, но думали они, главным образом, о Польше; секрет их упорного сопротивления проекту относительно Силезии следует искать в их опасениях, чтобы Польша не возродилась из пепла. Этой затаенной мысли предназначено было отныне оказывать на их сношения с Наполеоном преобладающее и роковое влияние. “Требование Берлина, быть может, встревожило бы менее”,[279 - Письмо к императору от 17 февраля 1808 г.] – писал Коленкур; эти слова точно определяли положение. По вопросу же о Турции между правительством и общественным мнением существовала полная общность во взглядах и надеждах, так как император Александр очень чутко относился к желаниям своего народа, находил их справедливыми и вполне присоединялся к ним.
Итак, царь повиновался побуждениям, менее бескорыстным, чем предполагал Коленкур сначала. Тем не менее, посланник с самого начала пришел к неоспоримо верным выводам. Да, тильзитский союз переживал критическое и роковое время. Вопросы восточный и польский, которые уже целое столетие мешали всякому прочному сближению между Францией и Россией, выступили теперь снова на сцену и были поставлены в тесную зависимость. Наполеон же, пытаясь разрешить первый с помощью второго, только усложнил его. Если тот или другой вопрос будет оставаться нерешенным, затягивая настоящее неопределенное положение, союз не развалится немедленно, но то, что составляет его сущность и силу, то есть вера Александра в блага этого союза, безвозвратно исчезнет, и останется только одна иссохшая скорлупа, которая рассыплется при первом же толчке. Все могло бы быть еще исправлено, но только при условии, что Наполеон рассеет недоверие России и заодно удовлетворит ее честолюбивые. Необходимо было успокоить ее по вопросу о Польше и, как можно скорее дать ей удовлетворение за счет Турции.
ГЛАВА 6. ЭВОЛЮЦИЯ К ВОСТОКУ
Наполеон узнает, что Александр не соглашается предоставить ему Силезию и что он настойчиво требует княжества. – Путешествие в Италию; посещение Венеции. – Мираж Востока. Наполеон серьезно думает о разделе Турции и хочет воспользоваться им как средством добраться до своей соперницы. – Пророческое предвидение будущего. – Англия уязвима в Азии. – Упорная мечта об экспедиции в Индию. – Три пути, ведущие в Индию: 1) путь через Суец; 2) мимо мыса Доброй Надежды; 3) через центральную Азию. Попытка Наполеона использовать один за другим все три пути. – Проекты Павла I. – Сношения с Персией. – Посланник Фет-Али во дворце Финкенштейн. – Договор, обеспечивающий нам свободный проход через Персию. – Топографическая миссия. – Наполеон думает поставить раздел Турции в связь с экспедицией в Индию. – Истинный характер его проектов относительно Азии. – Разговор с Талейраном. – План всемирной войны. – Усилия поднять и использовать против Англии все государства южной Европы. Соотношение между проектами относительно Испании и проектами, предметом которых служит Турция. – Колебания императора. – Его постоянно преследует мысль о Египте. – Наполеон хочет выиграть время. – Новый курьер Коленкура; настойчивость России усиливается. – Австрия приглашается на всякий случай к разделу. – Разговор с Меттернихом. – Важная депеша Коленкуру от 29 января 1808 г., свидетельствовавшая о нерешительности императора. – Возвращение Савари. – Вопросы, предложенные Коленкуру. – Необходимость в течение некоторого времени поддерживать союз с Россией. – Англия заявляет о своей непримиримости; тронная речь; прения в парламенте. – Гнев Наполеона; он клянется уничтожить Англию и сделать Александра соучастником своих колоссальных планов.
В декабре 1807 г., еще до вступления Коленкура в должность, Наполеон узнал впервые из донесений Савари, что император Александр отказывается предоставить ему Силезию. Кроме того, он получил ноту от 18 ноября и из нее увидел, что царь настаивает на своих притязаниях относительно княжеств. Если бы после Савари и Коленкуру не удалось убедить согласиться на предлагаемый обмен, единственным средством для удовлетворения России и соответственного вознаграждения Франции оставался раздел между ними Турции. Но решится ли Наполеон на такую крайнюю меру, хотя он и намекал на нее в письменных инструкциях и в разговорах, правда, с оговорками и не скрывая, что это вовсе не отвечает его желаниям?
Депеши Савари нагнали его в Венеции. В продолжение нескольких недель он осматривал свое Транзальпинское королевство. Он был в восторге, видя снова места своих первых подвигов, и горел желанием осмотреть попутно те венецианские государства, которые дал ему Аустерлиц, и привести в блестящее положение свои новые владения. Он только заехал в Милан и быстро прокатил через Ломбардию, сея повсюду на пути полезные учреждения и зачатки цивилизации. Венеция задержала его на более продолжительное время. Он занялся возрождением этого мертвого города и, по рассказам, в четыре дня сделал больше, чем австрийское правительство в четыре года. В Венеции он снова очутился впредверии Востока. Здесь-то в 1797 г. взорам его открылись страны, которые имели на него притягательную силу; здесь в нем зародилась мысль, что ему предназначено быть участником в решении их судеб.[280 - См. сочинение графа Boulay de la Meurthe, Le Directoire et l’expеdition d' Egypte, p. 17–18.] Теперь, десять лет спустя, не явилось ли перед ним то же, открывающее ему широкие горизонты, видение? Прибыв снова на Адриатическое море, оба берега которого теперь принадлежали ему и вместе с Корфу охраняли в него вход; любуясь этим морем или, вернее, глубоким заливом, из которого открывался вид на греческие моря и из которого он хотел сделать французский рейд, не испытал ли он под влиянием этого зрелища более сильное желание использовать эту чудную операционную базу? Не поддался ли он снова горячему призыву Востока, и не способствовало ли его влечение к нему уменьшению его предубеждений против великого предприятия так же, как и русские требования? Мы охотно верим этому, так как вид местностей захватывающе действовал на его воображение и иногда имел решающее влияние на его планы. Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что его мысли снова устремляются к Востоку. Из Венеции он пишет Савари: “Моя главная цель и основное желание моей души – изменить всю политику так, чтобы согласовать мои интересы с интересами императора Александра”;[281 - Corresp., 13384.] в этих словах как будто слышится обещание покинуть Турцию. Из Удино он приказывает Мармону: “Присылайте мне какие только можете достать, сведения о значении различных провинций Европейской Турции, а также и о положении дел на Востоке; но, собирая сведения, не компрометируйте себя”.[282 - Ibid., 13386.] Подняв в Тильзите вопрос о разделе, отсрочив, и сделав по поводу его оговорки в ноябре, теперь он снова возвращается к нему. Пока еще не решая его, он приступает к его изучению и обдумывает его выполнение.
Верный самому себе, он вовсе не имел в виду идти против неизбежного. Он хотел только взять это дело в свои руки и приноровить его к своим видам. Этим путем он сохранял возможность руководить событиями, вместо того чтобы подчиняться им, он хотел повелевать ими. Переворот на Востоке, ограниченный разделом только собственно турецких провинций, был чреват опасностями, так как мог привлечь англичан в Египет. Но не мог ли тот же раздел вместо того чтобы принести пользу нашим соперникам, сделаться орудием для их разгрома и полного уничтожения, если, не останавливаясь перед самыми рискованными последствиями, довести до конца это гигантски громадное дело?
Оттоманские владения, в частности полуострова Фракия и Малая Азия, которые сближаются почти до соприкосновения, имеют не одну только внутреннюю ценность. Их географическое положение во много раз усиливает их значение, так как они представляют пункт соединения Европы с Азией, образуют между этими материками как бы мост. Для Наполеона же они имели исключительную важность, ибо в эту же самую Азию, но только в более отдаленную ее часть забралась Англия и приобрела там свои самые драгоценные владения. Там это морское государство вступило на сушу и сделалось континентальным. Ведь только тут и мог властитель суши добраться до нее и нанести удар непосредственно ей самой. В Индии необъятность владений, завоеванных Великобританией, вредит прочности ее могущества. Несколько тысяч европейцев господствуют над миллионами туземцев, над слабовольным населением, покорным с виду, но способным легко приходить в брожение и волнуемым неуловимыми течениями и глухим недовольством. На этом-то неустойчивом фундаменте возвышается ослепительное, но хрупкое здание английского могущества: достаточно прикоснуться к нему, чтобы оно рассыпалось в прах. Поэтому во все времена Англия сознавала необходимость издалека защищать свои индийские владения, никого не допускать до путей к ним и держать в своих руках все подступы. Мусульманские государства, расположенные последовательно от долины Инда до Средиземного моря, как-то: афганские государства, Персия, даже Турция – всегда рассматривались ею как необходимые оплоты ее восточной империи, и в наши дни она объявила, что защита Индии начинается у стен Константинополя. Убежденный в неоспоримой верности ее взгляда, Наполеон думал создать из турецкого Востока исходную точку для похода в глубь Азии. Он думал, что если Франция и Россия соединят все свои силы, если Турция будет уничтожена или послушна, как раба, а Персия использована, если соединенные армии, выйдя из Малой Азии, займут позиции на возвышенных плоскогорьях, которые идут вдоль бассейна Евфрата и господствуют над ним, то на пути между союзными армиями и английскими владениями не будет никакого непреодолимого препятствия. Только море, усеянное английскими кораблями, может ограничить их свободу действий. От Евфрата до Инда им придется устранить со своего пути только варварские племена, преодолеть расстояние, победить природу, пройти по суше, и, быть может, Франции легче будет дойти до Инда, чем переплыть Па-де-Кале.
За время борьбы с вечным врагом у императора всегда было в запасе два плана, из которых он выдвигал на первое место то тот, то другой. То он предается мысли о высадке, хочет напасть на Англию на ее острове и сразиться с нею грудь с грудью; то предпочитает напасть на те пункты, по которым она разбросала свои морские и торговые станции. Тогда он мечтает развить военные операции против этого распространившегося повсюду государства во всех пунктах его владычества, но особенно в тех странах Азии, где оно обладает неисчерпаемым источником богатств, в той колонии, которая сделалась империей. В продолжение десяти лет в его мыслях о будущем живет план нападения на Индию, принимая, в зависимости от создавшегося положения тот или иной характер.
В 1797 г. в то время, когда Директория подготавливала высадку в Ирландию, Бонапарт организует египетский экспедиционный отряд, составляющий “правое крыло действующей против Англии армии” и имеющий назначением открыть нам через Суец путь к прекраснейшей колонии наших врагов.[283 - Boulay de la Meurthe, Le Directoire et Г expеdition d'Egypte, p. 15.] Но завоеванный Бонапартом Египет был отнят у его заместителей, и, чтобы найти доступ к Индии, Первый Консул должен был искать других путей. Был момент, когда Россия предлагала открыть ему путь в Индию. Павел I увлекся Наполеоном и хотел помочь ему с таким же страстным порывом, с каким недавно сражался против нас. Он лелеял мысль о франко-русской экспедиции через Азию,[284 - Rambaud. Histoir du Russie, 524 – 25.] и его мечта окончилась только с его жизнью. Павел внезапно сошел со сцены. Россия замкнулась и снова воздвигла между нами и Азией свою непроницаемую громаду. Однако Наполеон все-таки не отказывается от своих наступательных планов или, по крайней мере, от диверсии в Индию. В 1805 г., в то время когда он подготавливает нападение на Англию и сосредоточивает французские силы между Булонью и Дюнкирхеном, он замышляет усилить мыс Доброй Надежды тремя эскадрами и направить их к берегам большого азиатского полуострова.[285 - Сorresp., 8279.]
Несколько месяцев спустя Трафальгар снова закрывает перед ним доступ к океану, но вот как будто опять открывается путь в Индию – по суше. Турция возвращается к союзу с нами, а далее к востоку, за империей турецкого султана, наши отважные агенты проникают в Персию. Им предшествует молва о наших победах. На персидском троне они находят монарха, поклонника Наполеона, от всей души желающего поступить в его школу. Шах Фет-Али объявляет себя другом великого западного императора, посылает ему подарки, просит офицеров для обучения войск, ружей для вооружения, умоляет о нашей помощи против России и предлагает свою против Англии. Наполеон тотчас же соображает, что Персия, единственное полупросвещенное государство Иранского плоскогорья, может, благодаря своим средствам, дорогам, некоторому подобию организации, облегчить нам путь в Индию и довести нас до английских колоний. Это неожиданное содействие дает толчок его смелой мысли. В нем пробуждается идея проникнуть в Индию через Азию и принимает определенную форму.
С Персией устанавливаются сношения: посланник Фет-Али отправляется в Европу. Зимой 1807 г. он застает Наполеона в Польше в самый разгар борьбы с Россией. Император принимает его в своей квартире в Финкенштейне, в промежуток времени между двумя сражениями, среди войск, расположившихся биваками на мерзлой земле. Эта воинственная картина вызывает перед глазами восточного человека образ тех азиатских завоевателей, у которых, помимо их лагеря, не было другой столицы и которые управляли половиной мира из своей палатки. Из Финкенштейна посланника перевозят в Варшаву; начинаются переговоры; Наполеон преследует свою идею и заставляет персов подписать договор, в котором обращает на себя внимание следующая статья: “Если бы Его Величеству Императору Французов заблагорассудилось отправить сухим путем армию для нападения на английские владения в Индии, Его Величество Персидский Император, как добрый и верный союзник, предоставляет ему свободный проход по своей территории. В это же время в Персию был отправлен генерал Гардан; но этот посланник был, главным образом, главой топографической миссии, которому было поручено изучить топографию страны, ее средства и способы провести через нее армию. Он должен был собрать сведения в течение трех месяцев, а затем, после ратификации договора, долженствующего открыть нам доступ в глубь Азии, передать их своему повелителю.[286 - Текст договора и инструкции генералу были опубликованы в сочинении, озаглавленном: “Miss on du general Gardane en Perse sous le premier empire” par le comte Alfred de Gardane, Paris, 1865, p. 71–94, Gf Lettres inеdites de Talleyrand ? Napolеon, publiеes par M. Pierre Bertrand, fеvrier ? avril 1807.]
Между тем Россия уступает нашему оружию и просит мира. Между императорами происходит свидание. После сердечного объяснения они делаются друзьями и заключают союз, полагая в основу его общность вражды и общность политических целей. В союзе с Россией Наполеон видит новый довод в пользу того, чтобы действовать в Азии. Чего только он не сделает в этой части древнего мира, если к содействию, обещанному ему Фет-Али, прибавится еще содействие, которое предлагал ему Павел I, если он одновременно будет располагать и Персией, и Россией? В Тильзите он поверяет свой план Александру, говорит ему о предполагаемой экспедиции и просит принять в ней участие. Четыре месяца спустя Коленкуру поручается возобновить разговор об этом в Петербурге.[287 - См. в приложении инструкции Коленкуру.] Александр и Румянцев отнеслись к нашему предложению сдержанно.[288 - Коленкур к Шампаньи, 31 декабря 1807 г. Archives des affaires еtrang?res Russie, 144.] Будучи ближе к месту предполагаемых действий и в лучших условиях для оценки трудностей предприятия, зная варварское состояние народов и громадность расстояний, они вовсе не разделяли фантазий Павла I, но тем не менее избегали высказаться в отрицательном смысле. Чувствовалось, что они могли бы дать согласие на наши планы, если не по убеждению, то по крайней мере из желания быть нам приятными. Но, очевидно, Россия не оказала бы нам содействия даром. Она пожелала бы получить выгоды, пропорциональные возможному риску. Плохо веря в сомнительные завоевания по ту сторону пустыни, она потребовала бы себе теперь же нечто положительное. Прежде чем действовать в Азии, она заставила бы заплатить себе в Европе. Наполеон сознавал, что даже уступка княжеств не подвинет ее на это дело, что необходимо будет сделать ей за счет Турции выходящие из ряда вон, окончательно решающие восточный вопрос уступки, и вот мало-помалу в нем начала зреть мысль, исполнение которой, по-видимому, превышало человеческие силы, мысль – разделить Оттоманскую империю и, благодаря этому, отправиться в поход в Индию.
Верил ли он искренне в возможность достигнуть Индии? В наши дни Россия, чтобы пробраться в глубь Азии и приблизиться к подножию едва доступных гор, в которых расположены проходы в Индию, употребила треть столетия. Провидя пророческим оком это движение России, думал ли Наполеон заставить ее совершить его одним прыжком, по его команде, в силу данного им импульса, предполагая, что она бросится туда вслед за несколькими тысячами французов? Если действительно такова была его надежда, нельзя не остановиться в смущении перед столь дерзновенной мыслью и вместе с тем столь глубоким проникновением в будущее. Правда, союз с Персией делал предприятие менее фантастичным. В девятнадцатом веке агенты и солдаты царя, вынужденные избегать персидской территории, должны были обогнуть ее с севера, пройти через степи Туркестана и могли приблизиться к Индии только после грандиозного обхода. В 1808 г. расположенная на Иранском плоскогорье, занимающем господствующее положение между долиной Евфрата и Индийскими странами, Персия открывала нам более естественный и прямой путь в Индию, тот путь, по которому всегда шли завоеватели и купцы. Но было ли содействие Персии искренним или, по крайней мере, имеющим цену? Как ни симпатизировал нам Фет-Али, правительство его было распущено и своевольно. Его действиями руководила интрига; все зависело от подкупа. Если бы Персия и допустила нас на свою территорию, она, вероятно, возбранила бы доступ к себе нашим союзникам, русским, в которых привыкла видеть опасных врагов.
Эти затруднения не могли ускользнуть от Наполеона, и, однако, несмотря на все это, при чтении его точных и подробных инструкций Гардану ясно видно его намерение наметить этапы будущего похода. В складе его ума всегда выступает одна особенность, которой не следует пренебрегать при оценке столь невероятных проектов. Даже позволяя себе увлекаться ими, он был далек от того, чтобы не признавать за ними рискованного и романтического характера и не в меру обольщать себя возможностью успеха. Но так как его необычайная способность и страсть к математически точному подсчету шансов своих проектов были равны силе его воображения, – явление, быть может, единственное в своем роде, – то как только какой-либо из таких проектов останавливал на себе его внимание, он находил особенное удовольствие представлять его себе в точной, конкретной форме, с правильными очертаниями, с точно определенными линиями, и даже его мечты принимали математическую форму. По тому серьезному вниманию, с каким он изучал поход в Азию, нельзя с достоверностью заключить, что он льстил себя надеждой довести одну из своих армий до Индии, по крайней мере, в одну кампанию. Мысль, которую он лелеял, – как это и обрисовывается в его переписке и подтверждается указаниями современников,[289 - Corresp., lettres du 2 fеvrier 1808, XVI, 586 et du 17 fevrier 1808, 13573, Gf. les instructions de Caulaincourt in fine.] – очевидно, была более осуществимой и более практичной.
Когда он думал о приведении в исполнение стремительного движения Франции и России к азиатским странам, его непосредственной целью было не поразить Англию оружием, а причинить ей моральный ущерб, пошатнуть ее престиж и поколебать в ней уверенность в ее безопасности. Для достижения этого результата не было необходимости доходить до Индии, нужно было только доказать, что это возможно. Император имел в виду скорее демонстрацию, чем нападение. По его мнению, достаточно будет нашим колоннам миновать Босфор, чтобы привести в трепет Азию. В безлюдных пустынях этого материка, где слышен малейший шорох, шум наших шагов пробудит бесконечное эхо и донесется до Индии; он вселит надежду в народах и ужас среди их владык. Англия почувствует непрочность своего могущества. Увидя перед собой нацию, которая, перейдя пределы возможного, готовится нанести ей смертельный удар, она испугается нападения, успех которого удвоится благодаря имени Наполеона, вступит для предупреждения нападения в переговоры, и гордыня ее смирится перед столь страшной угрозой.
Вот какие мысли роились в уме Наполеона при его возвращении из Италии; можно предположить, что они часто посещали его за время его долгого пути. 1 января 1808 г., возвратясь в Тюльери, не отдохнув ни минуты, он запирается с Талейраном и проводит в беседе с ним пять часов.[290 - Толстой Румянцеву, 29 декабря – 9 января, 30 декабря – 11 января 1808 г. Архивы С.-Петербурга.] Хотя он и позволил князю Беневетскому переменить должность министра на звание вице-кардинала, но, освободив его от других дел, он всегда охотно с ним советовался, посвящал его в важные государственные дела и держал его при себе на случай совещаний по вопросам высшей политики. Их беседы повторялись в течение нескольких дней и не ускользнули от общего внимания. В них он открыл ему оба проекта, – первый, по которому в жертву приносилась Турция, и второй, по которому объектом его операций могла сделаться Индия. Несмотря на возражения Талейрана, он дал заметить, что тот и другой проект его сильно соблазняют.[291 - Mеmoires de Mеttеrniсh, II, 144 a 150 по разговорам с Талейраном, 16 января 1808 г. Талейран по секрету сказал австрийскому послу: “У императора два плана, один основан на реальной почве, другой на романтической. Первый, это раздел Турции, второй – экспедиция в восточную Индию. Вы знаете, что новые перевороты не входят в мои планы; но в этом отношении ничто не может повлиять на решения императора, характер которого вам известен”, Gf Beer. Die orientalich Politik Oesterreichs 171–174, и Zehn Jahre oesterreichischer Politik, 303–308.]
Однако эти проекты заключали в себе только одну сторону его обширнейших планов, только одну из частей обнимавшей весь мир политической системы. Другие дела поглощали тогда императора, и каждое из них могло быть рассматриваемо им как дело исключительной важности и требующее полного его внимания. В это время он заканчивал и усиливал оккупацию Португалии, посылал новые полки по ту сторону Пиренеев, осторожно вводил свою армию в глубь Испании и потихоньку протягивал к ней руку. В Италии, заняв сперва Этрурию, Парму, Пьяченцы, он решает захватить романские государства и зачинает против главы церкви роковую для его памяти борьбу. Эти многочисленные дела не отрывают его от мыслей о Востоке, и несмотря на то что столько предприятий, начатых и подготовленных, меняют в его уме свой характер, он хочет поставить их в тесную связь, чтобы они дополнили одно другое и взаимно поддерживали друг друга. По его мнению, всех их связывает одна общая идея. Он не рассматривает их каждую в отдельности, но видит в них ряд военных операций, направленных к одной общей цели, совокупность которых должна сломить Англию и повергнуть ее, доведенную до ничтожества, к его ногам. Страстное желание заставить Англию занять подобающее ей место и тем добиться полного мира охватывает его властно, с непреодолимою силой. Оно то подстрекает и одухотворяет его гений, то вводит его в заблуждение, то внушает ему гениальные, глубокие, но чересчур широкие планы, диктует применение чрезвычайных, сверхчеловеческих мер, которые нарушают как обычные законы политики, так и права народов. Сдавив, как в тисках, Германию, веря в возможность обеспечить за собой Россию, которая стоит его стражем на севере, он думает, что пришло время организовать юг Европы для борьбы с морским и колониальным могуществом англичан. Несколько государств на юге из принципа или по недостатку решимости уклоняются еще действовать сообразно его желаниям; их слабость делает их доступными влиянию нашей соперницы. Следует, чтобы они сплотились под его рукой; чтобы не только прекратили всякие сношения с нашими врагами, но и могли быть употреблены в дело против них; чтобы они допустили нас на свою территорию, отреклись от своих симпатий и поднялись против нашего врага. Они должны или исполнять нашу волю, или погибнуть, ибо их средства, их население должны быть использованы для общего дела; их территория должна быть предоставлена нам для свободного прохода до тех мест, которыми владеет или которым угрожает Англия. Распространяя французскую власть на Средиземном море, Наполеон хочет подчинить себе этот обширный бассейн от одного конца до другого для создания одной громадной операционной базы. В основе всего этого лежит та же самая мысль, которая побуждает его направить правое крыло своих сил к Гибралтару, а левое перекинуть по ту сторону Босфора.
Несмотря на то, что ум его работает с поразительной силой, что он наводнен и как бы брызжет идеями, он вовсе не думает, что наступило время для решения двух главных вопросов, испанского и восточного. Он ждет, чтобы события, принимая более определенный характер, доставили ему более ясные указания и достаточные причины для принятия того или другого решения. Думая об Испании, он колеблется между несколькими решениями, не зная, следует ли ему низложить царствующую династию или сделать ее своим орудием. Следует ли уничтожить королевство, завладев при этом его северными провинциями, или попытаться примирить его с собой, обеспечив ему лучший образ правления; следует ли довести свои границы до Эбро или же распространить свою сферу влияния до Кадикса. Что касается Востока, то он выжидает, когда он лучше уяснит себе желание России, и ждет от Коленкура первых его донесений. Прежде чем пожертвовать Оттоманской империей, он хочет знать, безусловно ли обязывают его к этому требования Александра, и в то же время задает себе вопрос, способна ли Турция играть активную роль в его политике.
Зная, что турецкий посланник только что виделся в Париже с Толстым и выразил желание поскорее начать переговоры, он приказывает 12 января задать Себастиани целый ряд вопросов. Подпишет ли Порта мир, по которому она лишится Молдавии и Валахии, и будет ли уступка княжеств достаточным средством для удовлетворения России? С другой стороны, не предпочтут ли турки скорее возобновить борьбу, чем уступить эти две провинции, и, во всяком случае, нужно ли, чтобы Восток оставался в пламени? Останется ли Порта нашей союзницей против Англии, каков бы ни был исход переговоров? Какое военное содействие может она предложить нам? По всем этим вопросам Наполеон желает иметь обстоятельные сведения.[292 - Corresp., Archives des affaires еtrang?res, Turquie, 216. 13446 Шампаньи к Себастиани, 14 января 1808 г.] Но в конце концов он все-таки возвращается к своим первоначальным возражениям против раздела и находит, что ему не удалось их устранить. Присутствие британского флота в Средиземном море стесняет все его планы, мешает их осуществлению и, умеряя полет его мысли в область воображаемых завоеваний, возвращает его к грозящей ему действительности, которую он предусматривает и которой боится. У него нет уверенности, что Турция распадется при первом толчке и что, следовательно, Азия будет для нас открыта; но зато он почти что уверен, что Англия попытается овладеть Египтом и островами, лишь только мы нанесем первый удар оттоманской неприкосновенности. Перед такой грозной перспективой он отступает в нерешительности и временно останавливается на мысли не ускорять событий. 14 января он заставляет Шампаньи написать Коленкуру в смысле первых данных ему инструкций, т. е. чтобы он вернулся к турецко-прусскому проекту и отклонил всякую компенсацию для Франции на Востоке: “она решила бы вопрос о существовании Турецкой империи, а император отнюдь не хочет ускорять ее падения”.
Его истинные намерения в рассматриваемое нами время обнаруживаются в post-scriptum, прибавленном к министерской депеше. Теперь он не надеется уже получить Силезию за уступку России княжеств. Его желание сводится к тому, чтобы как можно дольше не высказываться и не связывать себя обязательствами. Поэтому посол должен затянуть переговоры; не вызывать императора Александра и его министров на категорические объяснения; избавить его от требования вывести немедленно войска из Пруссии и от необходимости принимать теперь же решение относительно Турции. Настоящее положение дел, несмотря на всю свою неупроченность и неопределенность, вовсе не было для него неблагоприятным; оно давало возможность нашей армии оставаться в Пруссии и предоставляло Франции господство над Европой; оно могло и долее продолжаться вполне безопасно. Имея в виду продлить это неопределенное положение, Наполеон приказывает добавить к сведению Коленкура следующее замечание: “Существующее положение отвечает намерениям императора; ничто не вынуждает желать его изменения; стало быть, не следует ускорять принятия определенных решений петербургским кабинетом, тем более, если есть основание думать, что они не будут соответствовать намерениям императора. Особенно это применимо к разделу Турецкой империи в Европе, т. е. тому самому делу, которое император желает отсрочить, так как при настоящих условиях оно не может состояться с выгодой для него. Следовательно, вы должны постараться выиграть время, действуя настолько умело, чтобы эти отсрочки никоим образом, не вызвали неудовлетворения Русского двора; вы должны неустанно внушать ему, что главным предметом забот и усилий обоих императоров должна быть война с Англией и мир, к которому ее необходимо принудить”.[293 - Archives des affaires еtrang?res, Russie, 146.]
Депеша от 15 января с post-scriptum, помеченная 18 числом, была приготовлена, но не была еще отправлена, когда пришли от Коленкура донесения в форме заметок и наблюдений, которые он вел со времени своего приезда до 31 декабря. Вероятно, читатели не забыли, в каких выражениях и с каким возрастающим жаром говорил в них посланник о непреодолимом предубеждении царя против проекта, в основу которого была положена уступка Силезии, о его вновь пробудившемся недоверии, о том что его честолюбие возбуждено до последней степени; и что наступило время рассеять его недоверие и дать удовлетворение его честолюбию, словом, о том, что безотлагательно нужно остановиться на известном решении и провести его в жизнь. Итак, необходимость принять определенное решение, от чего Наполеон старался всячески избавиться, становилась неотложной. Основанные на наблюдениях выводы посла удивили его. Он велел отправить заранее составленные депеши, но при этом обещал Коленкуру новые и точные инструкции. Пока же он уполномочивал его подать надежду на соглашение, хотя бы Франции при подписании такого соглашения пришлось пожертвовать своими принципами. “Ни о чем не просите, – заставляет он написать ему, – и не давайте определенного ответа на требования, которые вам предъявят, но при всяком удобном случае вы должны говорить о том сердечном участии, с каким император старается относиться к желаниям императора Александра, и что единственно желания русского императора могут заставить его уклониться от направления, которое намечают ему интересы его империи. Следует указать на возможность во всем сойтись при взаимном искреннем желании понять друг друга”.[294 - Шампаньи к Коленкуру, 18 января 1808 г. Archives des affaires еtrang?res, Russie, 146.]
В следующие за этим дни император снова занимается вопросом о разделе Турции, изучает его, рассматривает его со всех сторон и изыскивает средства ослабить невыгодные стороны и опасности ужасного дела, на которое толкает его сама судьба. Русские вожделения, упорство которых ясно выступает наружу, беспокоят его не менее, чем предполагаемые захваты Англии. Он чувствует, что если он должен принять предосторожности против своих врагов, то в той же мере ему необходимо защитить себя и от своих союзников. Наполеон задается вопросом: не сумеет ли он создать на пути честолюбивых стремлений России преграду в иной форме взамен той, которую он уничтожит, разрушив Турцию, и нет ли возможности удовлетворить Россию, задержав в то же время развитие ее могущества?
Тогда Наполеон усматривает известные выгоды в политике, которую он пытался вести в самое недавнее время, которую постоянно превозносил Талейран, но которая была несовместима с тильзитским соглашением. В июле 1807 г. он с презрением устранил Австрию от всякого участия в предстоящих разделах; в январе 1808 г. он считает себя счастливым, что на свете есть Австрия, и что он может воспользоваться ею для того, чтобы поставить преграду выходящему из пределов могуществу наших союзников. Теперь он стремится соединить обе системы, между которыми он некогда колебался, т. е. союз с Россией, и в то же самое время союз с Австрией. Пусть император Александр получит по ту сторону Дуная выгоды, настолько блестящие, чтобы они могли на время обеспечить нам его признательность, но зато пусть и Венский двор будет приглашен к разделу и выкроит себе обширные владения в центральных частях Турции. Тогда политика Венского двора, решительно втянутая в восточные дела, обратит главное свое внимание на Восток; там как наши интересы, так и австрийские столкнутся с интересами великой православной державы, которая все более будет стремиться к присоединению к себе одноплеменного и православного населения, и, благодаря этим условиям, монархия Габсбургов перейдет на нашу сторону и окажет нам содействие. Уже с этого времени Наполеон хотел подготовить Австрию к предназначавшейся ей роли. Вот почему, рассматривая раздел, главным образом, как средство быть приятным императору Александру, он, прежде чем заговорить о нем с русским кабинетом, сообщил по секрету предполагаемый план австрийскому послу.
22 января он принимал в частной аудиенции графа Меттерниха, посланника Франца I. После нескольких ничего не значащих слов он, по выражению Меттерниха, “обеими ногами прыгнул в турецкий вопрос”. “Только властная сила обстоятельств, – сказал он, – может вынудить меня нанести удар Турции, которую я должен был бы всячески поддерживать; к этому помимо моей воли могут принудить меня англичане: мне приходится искать их там, где я могу их найти. Мне ничего не нужно, я не ищу никакого расширения; Египет и некоторые колонии представили бы для меня некоторую выгоду, но эта выгода не может возместить непомерного расширения России. Вы также не можете смотреть равнодушно на ее расширение, и я вижу, что именно разделу Турции суждено теснее нас сблизить”. Здесь слова императора приняли знаменательное значение: в двусмысленных фразах, в которых чувствовались и бессильная злоба, и опасения, у него вырвалось полупризнание о чрезвычайных жертвах, к которым, быть может, принудит его союз с Александром. “В тот день когда русские…” – сказал он, затем тотчас же спохватился и, “проглотив” начало этой фразы, он продолжал: “Когда водворятся в Константинополе, вам нужна будет Франция, как помощница против России, и Франция будет нуждаться в вас, чтобы сдерживать русских”. Он нарисовал перед глазами Меттерниха русскую опасность и “с силой и увлечением говорил о ней”. Он одобрил притязания Австрии на долину Дуная, притязания, по его мнению, вполне законные, так как они “основываются на ее географическом положении”. Наконец, изложив все вкратце, он в виде заключения сказал графу: “Вы можете уведомить ваш двор, что вопрос о разделе Турции еще не поднят; но лишь только это случится, вы не только будете допущены, но даже приглашены, как это и подобает по всей справедливости, для защиты и обсуждения с общего согласия ваших интересов и ваших видов”.[295 - Mеmoires de Metternich, II, 151, 154 a, 156, 159.]
Предупрежденный Талейраном Меттерних ждал этого разговора. Он не успел еще получить приказания своего двора и ограничился принятием к сведению слов императора. Впрочем, Наполеон и не хотел ничего другого. Он не думал, чтобы Австрия могла не откликнуться на надежды, которые он на нее возлагал. Не потому чтобы он верил в силу и постоянство восточных вожделений Франца I, напротив, ему было известно, что Австрия, – уже по самой своей натуре сторонница охранительной политики – с ужасом будет смотреть на новое разрушение. Но он знал, что ее географическое положение вменяет ей в обязанность, скрепя сердце, принимать участие во всяком разделе Турции, раз она не в состоянии помешать ему. Для Австрии Оттоманская империя очень удобный и не особенно грозный сосед; у нее нет ни малейшей охоты заменить его одним или несколькими другими государствами, менее уживчивыми. Но лишь только новое расхищение Турции делается неизбежным, единственным средством Австрии уменьшить роковые его последствия, остается примкнуть к дележу: она плачет, но, обогащаясь за счет турок, утешается в своем бессилии спасти их. На этих, совершенно верных данных Наполеон основывал свои расчеты. Поэтому он не столько желал сговориться с Австрией, сколько заранее предупредить ее, чтобы события не застали ее врасплох, чтобы и она со своей стороны могла изучить вопрос, определить точно свои намерения и подготовить средства к борьбе. Благодаря этому, когда наступит час решительного спора, она будет в состоянии властно, с полным знанием дела, появиться на сцене и, став на нашу сторону, работать в пользу наших интересов.
Но, приняв предосторожности в Вене, был ли намерен Наполеон приступить, наконец, совместно с Россией к важному вопросу? 29 января он отсылает Коленкуру обещанный ответ, но эта инструкция не содержит, в себе ничего определенного. Император подвигается очень мало вперед – он делает только один шаг по направлению к чрезвычайным мерам. Он позволяет Коленкуру не только выслушивать русских, если они заговорят с ним о разделе, но и спросить, как они думают и желают выполнить это дело. Однако слова посланника не должны иметь значения ясно выраженного согласия. Наполеон отлично понимал, что если война с Англией затянется, он вынужден будет вступить с Россией в серьезное, прочное соглашение, что он вынужден будет удовлетворить царя, и намеревался включить требуемое царем удовлетворение в общую сумму вознаграждений за действия, гибельные для Британской империи. Тем не менее, он имел в виду решиться на это только скрепя сердце, и в настоящее время старался отдалить, насколько возможно, часть расплаты, ибо отсрочивая ее, он все еще надеялся избавиться от нее. Положим, Англия как будто готова вести с нами ожесточенную борьбу. Но искренно ли ее поведение? Может быть, чтобы привести ее в более мирное настроение, достаточно будет найти только способ подойти к ней и объясниться? Недавно, до отозвания своего посланника из Лондона, венский кабинет пытался предложить свое посредничество в лице этого агента.[296 - Mеmoires de Metternich, II, 144.] Австриец плохо взялся за дело и не имел успеха. Но, думал Наполеон, разве порванная нить не может быть опять скреплена более искусной и более доброжелательной рукой? Ведь вполне возможно, что в ближайшие месяцы, даже недели, завяжутся переговоры, что они сделаются серьезными, приведут к цели и в результате избавят его от непоправимых решений. Но захочет ли Александр и будет ли иметь возможность согласиться на новые отсрочки? Долго ли еще можно заставить царя ждать и питать исключительно только надеждами, не касаясь вопроса о Пруссии, а говоря только о разделе, отталкивая его от нас не вредя его личной безопасности? Вот вопрос, по которому недавно прибывший из Петербурга Савари после долгих расспросов не мог, сказать ничего определенного;[297 - Mеmoires du duc de Rovigo, III, 205.] по этому же вопросу было предписано собрать сведения и Коленкуру. В письме от 29-го император не приказывает, а только расспрашивает: этот документ выдает секрет его нерешительности. Чувствуя на себе тяготение рокового закона, обрекающего его не останавливаться на своем пути, он противится еще его велениям, и, готовясь переступить пределы, за которыми человеческий разум и предвидение теряют свою силу, увлеченный потоком борьбы до грани, за которой начинается неизвестность, он, прежде чем поставить на карту свою судьбу, колеблется и собирается с мыслями.
“Господин посланник, – пишет Шампаньи, – я сообщал вам, что мне придется более подробно ознакомить вас с намерениями Императора относительно того направления политики, которого вы должны держаться. Я это делаю теперь. Вы прекрасно выразили намерения. Нужно непрестанно говорить при Петербургском дворе, – и крайне важно, чтобы Петербургский двор вполне проникся этим убеждением, – что главный интерес Франции и первейшее желание Императора состоят в точном выполнении тильзитского договора, что Император вовсе не думает о расчленении Пруссии, что ему не нужно ни одной из ее провинций и что если он и требует Силезию, как компенсацию за Валахию и Молдавию, которые останутся за русскими, то вовсе не потому, что придает особую цену приобретению этой провинции, а в силу невозможности найти в другом месте справедливое вознаграждение за подобную жертву. Но и эта сделка будет заключена им весьма неохотно, единственно из желания оказать услугу императору Александру и усилить престиж его власти. Император более всего предпочитает, чтобы положение вещей оставалось таковым, как установил его тильзитский договор.
Но может ли оно оставаться таким? Так как население Петербурга не будет занято приготовлениями к войне и надеждой на новое расширение империи, то не возрастет ли его нетерпение вследствие лишений и потерь, которые налагает на него прекращение давнишних сношений с Англией? Не найдет ли недовольство народа поддержку у недовольных при дворе и в армии? Не будет ли армия тяготиться бездействием и с величайшим неудовольствием смотреть, как исчезают ее надежды на возможность сделать, благодаря новым завоеваниям, блестящую карьеру? Может ли английская партия извлечь значительную выгоду из такого настроения?