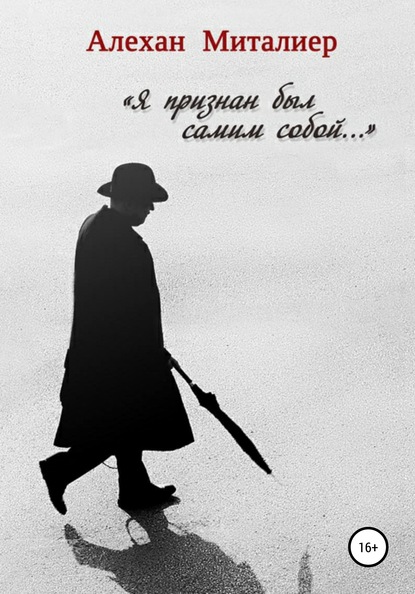По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я признан был самим собой
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кроме того, как я говорил, мне тогда не близка была русская литература, все страсти, идеи и содержание которой, кроме Пушкина, – это пафос страдания, заполненного религиозными идеями, философскими развернутыми монологами Толстого, Достоевского. Это не помогало жить, двигаться вперед – можно было только любоваться прошлым или сострадать настоящему… это меня смущало в русской литературе. Единственным писателем, повлиявшим на меня тогда, был (и до сих пор остается!) Чехов. Ну, и конечно, западная литература – Лондон, Силлитоу, Фицджеральд, Кортасар, Маркес, Джойс… могу перечислить десятки имен.
На каком-то этапе я случайно натолкнулся на книгу Джона Уэйна «Зима в горах»… Для меня, «молодого горца», само название уже было каким-то манящим; я был поражен прочитанным; вопросы, которые ставил писатель, мне были близки, как и художественные приемы описания проблем, особенно валлийцев и шотландцев. Я увидел, что национальный вопрос может освещаться и так, как это сделал Уэйн. Мне его высказывания очень близки, например:
– В моей биографии нет ничего интересного, – сказал он, отхлебывая из стакана.
– Что-то все-таки должно же быть. К примеру, чем вы занимаетесь?
– Страдаю. Это моя профессия – страдать. Шагаю по земле и весь исхожу болью.
Горькая ирония большого мастера…
Ну и, конечно, кино. Оно тогда переживало расцвет… До сих пор удивляюсь идеологам, разрешавшим прокат западных фильмов, где показывали совсем другой образ жизни, другие идеалы, входившие в явное противоречие с нашей советской действительностью. Я до сих пор иногда пересматриваю эти фильмы старых мастеров.
М. К.: Ты – человек, открытый разным культурам, а в какой ощущаешь себя наиболее комфортно? Какую считаешь родной?
А. М.: Более комфортно я ощущаю себя, безусловно, в кавказской, одной из древнейших культур мира, и именно потому, что она по духу универсальна в своих проявлениях – она стала основой многих других культур и одновременно вобрала и вбирает в себя лучшее.
М. К.: Говорят, что язык человека формирует его мировоззрение и его поведение. Это так?
А. М.: Я думаю, что человека формирует сознание. Что значит в этом вопросе язык? Все, о чем я говорил, формирует человека, начиная с семьи, взаимоотношений в семье. И тут, по-моему, совершенно неважно, каким языком ты пользуешься.
М. К.: То есть получается, что ты мыслишь на родном языке, а пишешь на русском?
А. М.: В зависимости от ситуации… Когда обращаюсь к духовно-обрядовой сфере жизни или в какой-либо острой ситуации, я с русского сразу перехожу на родной, а в качестве рабочего языка, языка науки и литературного творчества остается русский, для меня это способ познания мира. Кроме того, на ингушском языке нет такого количества источников (в том числе литературных переводов, научных изданий), чтобы я читал и думал на нем. К большому сожалению (или не к сожалению), так получается…
М. К.: Сегодня довольно много писателей – выходцев из бывшего СССР и России – живут и пишут в эмиграции. Многие – на языке страны, в которой проживают. Как ты относишься к подобной творческой ассимиляции?
А. М.: Во-первых, к любой ассимиляции я отношусь плохо, во-вторых, нынешняя миграция во многих отношениях мне кажется спекулятивной (это отдельная проблема – здесь не буду ее развивать); я себя не чувствую эмигрантом (я уже об этом не раз говорил) и не хочу встраиваться в чужое общество, как многие люди, которые покупают виллы, вкладывают немалые средства во что-то в чужой стране и пытаются стать больше своими, чем они есть, но это их личный выбор. Кстати, я об этом писал в своих рассказах. Эта ассимиляция для многих проходит трудно, болезненно в силу определенных национальных особенностей, несовместимости правил жизни, менталитета, но у них есть цель – остаться там жить.
М. К.: Но таким образом увеличивается их читательская аудитория.
А. М.: Но мы же с тобой знаем пример Бродского, который пытался писать на английском, чтобы расширить аудиторию, сделать себе имя в англоязычной литературе, ну и что из этого вышло? И таких примеров много.
М. К.: Ты уже много лет живешь в Венгрии. Это как-то отразилось на твоем ощущении жизни?
А. М.: Ну примерно так, что я поехал отдыхать на курорт и надолго там задержался – и все…
М. К.: А вообще, как ты считаешь, твоя проза, переведенная на венгерский язык, будет близка и понятна венгерскому читателю?
А. М.: Для меня не существует таких понятий, как «венгерский» читатель, «английский» читатель, «русский» читатель. Наверное, будет близка, но не в национальном ключе, а потому, что читателям, как и мне, интересны типы людей с изюминкой, с чудинкой… они есть везде, и везде практически одинаковые. Например, у меня есть венгерские типажи – Пишта, Кати, но точно такие же гуляют в любом нашем ауле или на другом конце планеты. Я пишу просто для людей, без оглядки на их национальность.
М. К.: Один из твоих замечательных циклов – это венгерские зарисовки. Чем тебе интересны венгерские типы? Для тебя существует понятие «национальный характер»? Или это искусственно сконструированная категория?
А. М.: Да, это во многом декоративное, надуманное понятие. Разве ты не замечала, что о национальном характере люди вспоминают в ситуации каких-то конфликтов – политических, экономических, социальных. Здесь я могу говорить только об «обществах» людей. На моем творчестве и мироощущении жизнь в Венгрии никак не сказывается – я мог бы жить и в Германии, и в Англии, и везде писал бы так, как пишу.
С точки зрения психологии для меня нет никаких венгерских типов – есть типы людей. Если взять венгра, грузина и ингуша, в них много общего – все гордые, все на конях, все с саблями, вооружены, этакий собирательный образ джигита. Они не теряют благородства, освобождают девушек из неволи, забирают у богачей золото, делят его между бедными и т. д. То же самое можно сказать о русском национальном характере – это прежде всего народ, который создал большое общество, вобравшее в себя черты многих народов. Поэтому, как мне кажется, слишком узко в наше время размышлять о национальном характере – можно ли, например, говорить об американском национальном характере? Нет… но можно говорить об американской политической доктрине, о доктрине внутренней политики. А такое понятие, как «американская мечта», которое так любят американцы, вообще не несет в себе ни этнической, ни национальной идентичности.
Бывает, что народы-братья превращаются в людей разных национальностей, с разным национальным характером, как это вдруг обнаружилось в отношениях между русскими и украинцами, между чеченцами и ингушами. Иначе говоря, вдруг ни с того ни с сего обнаруживаются национальные различия, но они все-таки больше политические, искусственно созданные. А ведь и в философской мысли, и в мировой литературе утверждается мысль о том, что люди в принципе принадлежат единой культуре: они плачут и смеются одинаково, им всем нравятся красивые женщины, природа, спокойная жизнь, то есть если общество исповедует общечеловеческие ценности, то вопросы такого рода обычно не поднимаются.
М. К.: Вообще ты много размышляешь над природой творчества… Случались ли неожиданные открытия в этой области?
А. М.: Как только я взял фотоаппарат в руки, я стал больше проникать в суть тех же растений и относиться, например, к цветам, уже не просто как к цветам, а как к чему-то большему, по-другому.
В этой связи я всегда вспоминаю слова старика-мюрида о том, что, если рядом с тобой нет близких, родни и ты не можешь давать милостыню в святой четверг, тогда поливай комнатный цветок или деревце в саду, обращайся к Всевышнему и поминай всех людей, дорогих твоему сердцу.
И (к вопросу о связях) эти же мысли я нахожу в японской культуре – в духовном мире японцев, в японской духовной традиции, японской литературе. Я всегда пытался понять систему образов японской живописи или китайско-японской живописи, способность созерцать предметы и любоваться деталью.
Вот вспомнил, как в известном фильме Антониони (Blow-Up) герой-фотограф проходит этот сложный путь: бывает, что видишь одно, а за этим одним не замечаешь чего-то более важного, интересного или загадочного… К примеру, ты можешь фотографировать человека – и вдруг видишь, что в кадр попала обалденно красивая женщина, в которую ты мог бы даже влюбиться… это кортасаровское, фильм снят по рассказу Кортасара.
Описание детали – это, конечно, важный художественный прием, но нельзя им чересчур увлекаться, это приводит порой к творческой катастрофе. Вот почему мне неинтересны многие современные писатели. Да, они следуют всем канонам, знают, как «делаются» роман, повесть, рассказ, но когда это неискренне, когда нет этой пронзительности сердца, души, настоящей трагедии, когда это пишется все «со стороны» – это уже начало катастрофы.
Вот я читаю, например, книги о выселении народов, раскулачивании, вообще о сталинском периоде, и мне важно понять, что? двигало этими авторами, которые, по сути, ничего не знают об этих трагедиях. На фоне этих трагедий они вполне прилично жили, получали образование и не знали даже десятой доли тех испытаний, которые выпали на мою жизнь и жизнь моих родителей. Сегодня трудно поверить, что я мог быть отчислен в 1973 году из ростовского университета по национальному признаку.
М. К.: Кто в твоей жизни (личной и творческой) оказал на тебя наибольшее влияние? Из родных и близких? Из наставников?
А. М.: Мой погибший старший брат в первую очередь, Никита Ильич Толстой и, наверное, старики моего тейпа, безымянные… я не называю их имен – такая общая коллективная мудрость моего маленького народа.
М. К.: А когда ты написал свое первое произведение? Кто был их первым читателем и критиком?
А. М.: Народный поэт Джемалдин Яндиев – он же читатель и строгий критик.
М. К.: А с чего обычно у тебя начинается рассказ или стихотворение? С события, наблюдения, ассоциации? «Из какого сора», как сказала А. Ахматова?
А. М.: Конечно, с первого толчка [смеётся] – это когда меня оставляют в покое! Я нахожусь в уединении и готов писать… даже неважно, на какую тему, – просто оставьте меня! Я сажусь и пишу…
М. К.: Как ты обычно пишешь? По вдохновению? Переходя из кафе в кафе (как некоторые писатели)? За рабочим столом? Что значит для тебя фраза: писатель должен изучать жизнь. Или это просто «пустая метафора»?
А. М.: Мой рабочий стол никакого отношения к писательству не имеет; из кафе в кафе я не перехожу – в кафе я отдыхаю, думаю о чем-то, если позволяют думать. Иногда неожиданно приходит даже не вдохновение, а какое-то острое желание что-то записать, переписать, отложить, а потом опять вернуться к этому.
Извини, но я не понимаю, что значит «изучать жизнь» – затрепанная метафора, которая ровным счетом ничего не значит. Писатель должен не изучать жизнь, он должен переживать ее, чтобы его произведения не были имитацией реальной жизни. Поэтому я бы сказал, что писатель должен изучать себя, свою внутреннюю жизнь, и чем больше он себя узнаёт и познаёт, тем богаче и сильнее его творчество.
М. К.: Получается, что творчество по сути своей всегда автобиографично? И у тебя тоже? Как можно определить жанр твоей прозы? Фрагменты, зарисовки, ассоциации, рассказы, «эпифании»?
А. М.: Конечно, автобиографично, но это не откровенный автобиографизм, который «про жизнь», а автобиография как импульс к написанию чего-то, сравнению, размышлению. Да, в этом смысле автобиографично.
По поводу жанров… я бы назвал это мини-прозой, но в то же время она отражает то, как я живу, какие-то отрывки мыслей, паузы. И когда ты пытаешься записать это, то понимаешь, что жизнь человека укладывается всего в несколько строчек и что есть вещи, которые не надо развивать в большую форму. Хотя, возможно, это слишком несправедливо по отношению к моим персонажам, но это факт – я не могу писать о людях, в жизни которых нет внутреннего движения.
М. К.: Читатели заметили, что твое творчество совершенно свободно от идеологических или политических канонов, а его автор?
А. М.: Это смотря что считать таким каноном. У меня пока еще есть непреодолимое табу, связанное опять-таки с моим происхождением, с моими адатами; кроме того, я редко вторгаюсь в описание интимной жизни своих персонажей.
М. К.: А хотелось бы?
А. М.: Пока не было такой необходимости вторгаться в эту сферу только потому, что это хорошо «продается». Что-то вроде кинотрюка, только в литературе. Совсем не сложно сочинить «постельную» сцену – гораздо сложнее описать, что? происходит с людьми до неё… а то, что будет после, уже не так важно.
М. К.: А сам ты как относишься к себе как к писателю?
А. М.: Очень критично, сложно, потому что я никак не могу назвать себя писателем. Даже трудно определить это состояние, потому что чем больше я читаю современных авторов, тем больше мне не хочется быть писателем и иметь какой-то статус в писательском мире. Я не хроникер, не журналист – просто мне есть что сказать, и, скорее всего, я где-то близок здесь к Анри Мишо с его стремлением к разрушению жанров, которое шло от убеждения, что поэзия (прошлая и современная) себя изжила. Мне кажется, что у меня есть сторонники, которые меня поддержат.