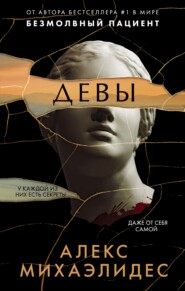По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Безмолвный пациент
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все же Алисия сделала одно заявление – посредством картины. Художница начала работу над полотном после того, как ее выписали из больницы и поместили до суда под домашний арест. Кроме того, суд счел необходимым приставить к Алисии сиделку, специализирующуюся на уходе за душевнобольными. По сообщениям сиделки, ее подопечная едва ела, практически не спала и почти безостановочно рисовала.
Обычно проходили недели и даже месяцы перед тем, как Алисия бралась писать новую картину. Она долго топталась на подготовительной стадии – рисовала бесконечные эскизы, создавала и переделывала композицию, пробовала разные варианты цветовых решений и форм, – пока на полотно не ложился последний мазок. Однако в этот раз она резко изменила творческий процесс, завершив полотно всего за нескольких дней.
Для большинства людей этого было достаточно, чтобы осудить ее. Каким надо быть бессердечным человеком, чтобы спокойно вернуться в мастерскую сразу после гибели супруга! И не мучиться угрызениями совести! Алисия Беренсон – хладнокровная убийца!
Возможно. Однако не стоит упускать из виду одну немаловажную деталь: даже если Алисия и убийца, она еще и художник. И тогда все встает на свои места (по крайней мере, для меня). Алисия хватается за кисти и краски и переносит на холст терзающие душу чувства и переживания. Неудивительно, что на сей раз живопись приходит к ней с такой легкостью. Если горе можно назвать «легким»…
Картина представляла собой автопортрет. В левом нижнем углу Алисия нанесла на холст название светло-голубыми греческими буквами.
Всего одно слово: «Алкеста».
2
Алкеста – героиня греческой мифологии. С ней связана одна из самых печальных историй любви. Алкеста добровольно отдала свою жизнь ради супруга, Адмета, согласившись умереть вместо него, поскольку все остальные отказались. Казалось бы, какое отношение трогательная легенда о самопожертвовании имеет к Алисии? Истинное значение намека долгое время оставалось неясным и для меня. Но однажды правда вышла наружу…
Впрочем, я слишком тороплюсь и забегаю вперед. Начну с самого начала, и пусть события говорят сами за себя. Я не стану ничего приукрашивать, менять местами или перевирать. Пусть то, что случилось, предстанет перед вами постепенно, шаг за шагом.
С чего начать? Наверное, мне следовало бы представиться… Но нет, пожалуй, пока останусь в тени. Ведь рассказ не про меня. Главная героиня истории – Алисия Беренсон. Вот и начнем с нее. И с «Алкесты».
Картина, написанная Алисией сразу после убийства Габриэля, – это автопортрет. Художница изобразила себя дома, в своей студии, стоящей у мольберта с кистью. Алисия обнажена. Ее тело прорисовано в мельчайших деталях: по худощавым плечам рассыпались длинные пряди рыжих волос, сквозь бледную кожу просвечивают голубоватые вены, на обоих запястьях свежие шрамы от недавних порезов. В одной руке Алисия держит кисть, зажав ее между пальцами. С кончика кисти капает алая краска – или кровь? Алисия изобразила себя пишущей картину, и тем не менее холст нетронут. Он пуст, как и выражение ее лица. Алисия смотрит на зрителя через плечо, повернув голову назад. Губы разомкнуты, словно в беззвучном крике.
Пока шли судебные заседания, Жан-Феликс Мартен, управляющий небольшой галереей в Сохо, где выставлялись работы Алисии, принял неоднозначное решение показать «Алкесту». Это вызвало осуждение. Одни потом называли его поступок сенсационным, другие – чудовищным. Зато факт, что автор картины находилась в тот момент на скамье подсудимых по обвинению в убийстве собственного мужа, обеспечил галерее Мартена огромные очереди – впервые за всю историю ее существования.
Стоя рядом с другими такими же ценителями искусства, я терпеливо ждал. Над нами ярко горели красные неоновые огни вывески магазина интимных товаров, находящегося по соседству от галереи. Очередь двигалась медленно, люди по одному осторожно заходили внутрь. Оказавшись в самой галерее, посетители, словно под гипнозом, шли в едином направлении, как возбужденная толпа на ярмарочной площадке, пробивающаяся через дом с привидениями. Наконец подошла моя очередь, и передо мной предстала «Алкеста».
Я уставился на картину. Смотрел в глаза Алисии, пытаясь угадать, почему у нее такой взгляд, пытаясь что-то понять, – но ничего не получалось. Портрет «молчал». Алисия безмолвно взирала на меня с холста. Пустая маска – непроницаемая и не поддающаяся прочтению. Как я ни силился, так и не смог определить по выражению лица, виновна она или нет.
Другие решили, что им это удалось.
– Настоящая злодейка, – прошипела женщина, стоявшая позади меня.
– Еще бы, – ответил ей мужчина. – Хладнокровная стерва.
«Ого! Категорично», – пронеслось у меня в голове. Ведь вина Алисии еще не доказана. Но благодаря усилиям желтой прессы общественное мнение было уже сформировано. Журналисты с самого начала повесили на Алисию ярлык злодейки: роковая женщина, «черная вдова», чудовище.
Факты же были просты. Полицейские застали Алисию в доме одну, с телом Габриэля. На винтовке обнаружены только ее отпечатки. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения – мужа застрелила именно Алисия. Зато вопрос, почему она это сделала, оставался без ответа.
Убийство Габриэля активно обсуждали в масс-медиа. В газетах, по телевидению и на радио были выдвинуты самые разные теории на этот счет. Приглашенные специалисты обвиняли, оправдывали, объясняли. Она наверняка должна была стать жертвой бытового насилия со стороны мужа, чтобы ситуация зашла так далеко. Согласно другой теории, убийство – результат неосторожности в ходе сексуальных игр супругов, ведь Габриэля обнаружили со связанными руками и ногами. Кто-то подозревал, что это самое обыкновенное убийство на почве ревности. Скорее всего, Габриэль завел любовницу. Однако на суде брат охарактеризовал убитого как преданного мужа, по-настоящему любящего жену. Тогда, возможно, мотивом послужили деньги? Но Алисия мало что выигрывала в результате смерти мужа. Она была обеспеченной женщиной, унаследовав большое состояние своего отца.
Так и продолжались бесконечные пересуды об убийстве Габриэля и последующем молчании Алисии. Ответы не находились, становилось лишь больше вопросов. Почему она отказывается говорить? И что это значит? А может, она пытается что-то скрыть? Или защитить кого-то? Если да, то кого? И почему?
Помню, я тогда поймал себя на мысли: в то время как все говорили, писали и спорили об Алисии, в эпицентре этого шумного и неистового вихря оставалась пустота – тишина. Вакуум. Загадка. На одном из заседаний судья Алверстоун довольно критично высказался об упорном отказе подсудимой говорить.
– Невиновные люди не стесняются открыто заявить о своей невиновности! – произнес он.
Однако Алисия Беренсон не только продолжала молчать, но и не выказала ни единого признака раскаяния. Из ее глаз не упало ни слезинки – этому факту журналисты придали особенное значение. Ее лицо было неподвижным, холодным, застывшим.
Представитель защиты решил пойти по единственно возможному пути и объявил о частичной вменяемости подсудимой. Он сказал, что проблемы с душевным здоровьем начались у Алисии очень давно, еще в детстве. Основную массу этих сведений судья Алверстоун отклонил как неподтвержденные. Однако под конец заседания профессору Лазарусу Диомидису удалось несколько поколебать категоричность судьи Алверстоуна. Лазарус Диомидис был профессором судебной психиатрии в Королевском колледже, а также занимал должность руководителя клинических исследований в Гроуве – охраняемой психиатрической больнице на севере Лондона. Так вот, он утверждал, что молчание Алисии является красноречивым свидетельством перенесенного сильнейшего стресса и это необходимо учесть при вынесении приговора. Если отставить витиеватые выражения, то фактически профессор высказал то, о чем психиатры очень не любят говорить прямо и открыто, а именно: Алисия душевно больна.
Это казалось единственным логичным объяснением всего случившегося. Иначе зачем ей связывать любимого супруга и стрелять ему в лицо в упор? И чтобы после такого не было раскаяния и объяснений? Она вообще не говорит. Сумасшедшая, не иначе.
В конце концов судья Алверстоун объявил, что принимает заявление защиты, и обратился к присяжным, чтобы это обстоятельство было ими учтено.
Было решено перевезти Алисию Беренсон в Гроув – под наблюдение профессора Диомидиса, заявление которого сыграло ключевую роль в решении суда. С другой стороны, если Алисия находилась в здравом уме и ее молчание было лишь умелым притворством, надо признать – хитрость удалась. Алисию приговорили к длительному тюремному заключению, однако в случае восстановления душевного здоровья через несколько лет ее могли бы досрочно освободить. И вот как раз сейчас Алисии бы самое время начинать «выздоравливать», верно? Пробормотать пару слов, сначала невнятно, потом еще и еще… Затем через силу выдавить слова раскаяния…
Ничего подобного! Шли недели, месяцы сменяли друг друга, минуло несколько лет – Алисия по-прежнему хранила молчание. Она не произнесла ни единого слова. Поскольку не последовало никаких откровений, постепенно интерес разочарованных журналистов к Алисии Беренсон иссяк. Для публики она стала очередной строчкой в длинном списке некогда известных преступников. Одной из тех, чьи лица большинство людей еще могут вспомнить, но имя уже забудут.
Большинство людей, однако не все. Некоторых, и меня в том числе, продолжало волновать загадочное дело молчаливой Алисии Беренсон. Как психотерапевт я не сомневаюсь, что во время убийства Габриэля ей пришлось перенести какую-то чудовищную душевную травму. И отказ говорить стал проявлением пережитого глубокого потрясения. Она не сумела свыкнуться с мыслью о совершенном ею убийстве, дрогнула и остановилась, будто сломанный автомобиль. Я мечтал помочь «запустить» ее снова, помочь ей рассказать свою историю, принять лечение и поправиться. Я хотел «починить» ее. Наверное, это прозвучит несколько самонадеянно, но я считал себя исключительно квалифицированным специалистом, способным помочь Алисии Беренсон. Я судебный психотерапевт и частенько имею дело с самыми надломленными и уязвимыми членами общества. И еще: кое-что в истории Алисии задело меня за живое. С самого начала я испытывал к ней искреннее сочувствие. К несчастью, в те дни я работал в Бродмуре[4 - Бродмур – знаменитая лечебница для маньяков.], и мысли о работе с Алисией так и остались бы лишь мечтами, если бы в дело неожиданно не вмешалась судьба.
Лет через шесть после того, как Алисию поместили в Гроув, там открылась вакансия судебного психотерапевта. Увидев объявление, я сразу понял, что у меня нет выбора. Повинуясь интуиции, я отправил резюме в Гроув.
3
Я – Тео Фабер. Мне сорок два года. Судебным психотерапевтом я стал из-за того, что крупно облажался. И это чистая правда, хотя, конечно же, это не то, о чем я говорил на собеседовании.
– Что привело вас в психотерапию? – спросила Индира Шарма, буравя меня взглядом поверх массивных очков.
Индира работала в Гроуве консультирующим психотерапевтом. Хотя ей было сильно за пятьдесят, круглое лицо еще сохраняло привлекательность, а в длинных угольно-черных волосах лишь изредка проблескивало серебро. Индира слегка улыбнулась, давая понять, что этот вопрос не из разряда сложных – лишь формальный разогрев перед настоящей беседой.
Я медлил с ответом, физически ощущая на себе пристальные взгляды остальных членов комиссии. Старательно глядя им в глаза, я протараторил заранее приготовленный ответ: милую сказочку про то, как в юности подрабатывал в доме для престарелых и как это разожгло во мне интерес к психологии. Затем – аспирантура по специальности психотерапия, и пошло-поехало.
– Думаю, я просто хотел помогать людям, – пожимая плечами, заключил я.
Что было откровенной чушью.
Нет, я, конечно, хотел помогать людям. Однако это было второй моей целью, особенно когда я начал посещать практические занятия. Настоящая причина, по которой я ввязался в психотерапию, была сугубо эгоистическая. Я хотел помочь самому себе. Уверен, большинство из тех, кто связал свою жизнь с лечением душевнобольных, пришли в профессию примерно так же. Она притягивает нас потому, что мы сами надломлены. И тогда изучение психологии становится попыткой излечить себя. Осознанной или неосознанной попыткой – это уже другой вопрос.
Самый ранний период развития человечества скрыт во тьме веков. Многие думают, что люди возникли из некоего первородного тумана полноценно сформированными личностями, подобно Афродите, вышедшей во всей красе из пены морской. Однако благодаря активно развивающимся исследованиям деятельности головного мозга мы знаем, что это далеко не так.
Мы рождаемся с наполовину сформированным мозгом, который представляет собой скорее комок глины, а не бога-олимпийца. Как сказал психоаналитик Дональд Уинникотт: «Отдельного понятия “младенец” не существует». Развитие человеческой личности происходит не в изоляции, а только в процессе взаимодействия друг с другом. Нас формируют и заканчивают этот процесс невидимые силы, которые мы не запоминаем, – наши родители. Страшновато, правда? Кто знает, каким унижениям и наказаниям мы подвергались в то время, когда память еще не сформировалась? Наша личность уже была сформирована, а мы даже не знали об этом.
Я рос нервным, легко возбудимым и пугливым ребенком. Повышенная тревожность появилась еще до того, как я осознал себя как личность, и совершенно от меня не зависела. Подозреваю, что источник этой психологической неустойчивости крылся в моих отношениях с отцом, рядом с которым я никогда не был в безопасности.
Случавшиеся у отца непредсказуемые, произвольные припадки сильнейшей ярости превращали любую, даже самую благоприятную ситуацию в минное поле. Самая безобидная фраза или выражение малейшего несогласия могли спровоцировать целый ряд «взрывов» агрессии, спастись от которых было невозможно. Стены дома буквально сотрясались от его крика, пока он гнался за мной на второй этаж. Влетев в свою комнату, я проскальзывал подальше под кровать и изо всех сил прижимался к стене. Вдыхал пыльный воздух и молился, чтобы меня поглотила кирпичная кладка и я мог исчезнуть. В следующее мгновение отцовская рука крепко хватала меня и выволакивала из-под кровати, возвращая к реальности. Он срывал с себя ремень и замахивался. Ремень со свистом рассекал воздух, а дальше один за другим на меня сыпались жгучие косые удары, обжигая мне тело. Порка заканчивалась так же внезапно, как и начиналась. Отец отшвыривал меня прочь, и я валился на пол мятой кучей, словно тряпичная кукла, брошенная злым ребенком.
Я никогда не был уверен, что такого сделал, чтобы вызвать весь этот гнев, и заслуживал ли я наказания. Однажды я спросил маму, почему папа так часто на меня злится. В ответ она лишь пожала плечами и грустно проговорила: «Откуда я знаю? Твой отец – законченный псих». Говоря так, мама не шутила. Если б моего отца сейчас обследовал психиатр, то наверняка диагностировал бы у него расстройство личности. Отец страдал от этой болезни всю жизнь, но никто его не лечил. В результате мои детские и юношеские годы прошли в мрачной атмосфере истерии и физического насилия: ругани, слез и битого стекла.
Конечно, были и счастливые моменты. Чаще всего – когда отца не было дома. Помню, как-то зимой он на месяц уехал в командировку в Америку. И на целых тридцать дней дом и сад оказались в нашем с мамой полном распоряжении, без него и его бдительных взглядов. Декабрь в Лондоне выдался снежный, и весь сад скрылся под чистейшим белым покрывалом. Мы с мамой слепили снеговика. Уж не знаю, осознанно или нет, но мы сделали его похожим на отсутствующего главу дома – с огромным животом, двумя черными камешками вместо глаз и парой веточек, напоминавших грозно сдвинутые брови. Я назвал снеговика «Папа», и он действительно здорово смахивал на отца. В довершение иллюзии мы с мамой снабдили снеговика папиными перчатками, шляпой и зонтом. А потом от души бомбардировали его снежками, хихикая, словно расшалившиеся дети.
В ту ночь разыгралась сильная снежная буря. Мама подошла к моей кровати, я притворился, что уже сплю, а потом выскользнул из дома в сад и долго стоял под падающим снегом. Вытянув руки, я ловил падающие снежинки и смотрел, как они медленно тают на кончиках пальцев. Я радовался и грустил одновременно – и, по правде говоря, не мог выразить это словами. Мой словарный запас был слишком мал, чтобы поймать это сетью из слов. Наверное, ловить исчезающие снежинки – это как ловить счастье, когда овладение в итоге ничего тебе не дает. Это напомнило мне, что там, за пределами родительского дома, целый мир: огромный, непередаваемо красивый мир. Мир, который пока для меня недоступен. Снежная ночь в саду вставала перед моим мысленным взором еще много лет. Как если б невзгоды, которыми та жизнь была окружена, заставляли этот миг свободы гореть еще ярче – будто крохотный огонек посреди беспросветного мрака.
Я пришел к выводу, что единственный шанс выжить – побег. И в физическом, и в духовном смысле. Надо убираться отсюда, чем дальше – тем лучше. Только так я смогу быть в безопасности. И вот мне стукнуло восемнадцать, я получил достаточные отметки и стал студентом. Без сожалений простившись с отчим домом в Суррее, я наивно полагал, что вырвался на свободу.
Как же я ошибался! Тогда я еще не знал этого, но было уже поздно: образ отца прочно засел внутри меня. Я внедрил его в себя, спрятав в области бессознательного. Куда бы я ни бежал, я нес его с собой. В голове звучал адский, неумолимый хор из размноженных голосов отца: «Бестолочь! Позор! Ничтожество!»
Во время экзаменационной сессии на первом курсе голоса стали настолько парализующими и громкими, что уже контролировали меня. Обездвиженный этим страхом, я был не в состоянии выйти на улицу, общаться, заводить знакомства. С тем же успехом я мог бы и не уезжать из дома. Я очутился в ловушке, угодил в патовую ситуацию без какой-либо надежды на спасение. Выхода не было.
Неожиданно подвернулось одно решение.
Обычно проходили недели и даже месяцы перед тем, как Алисия бралась писать новую картину. Она долго топталась на подготовительной стадии – рисовала бесконечные эскизы, создавала и переделывала композицию, пробовала разные варианты цветовых решений и форм, – пока на полотно не ложился последний мазок. Однако в этот раз она резко изменила творческий процесс, завершив полотно всего за нескольких дней.
Для большинства людей этого было достаточно, чтобы осудить ее. Каким надо быть бессердечным человеком, чтобы спокойно вернуться в мастерскую сразу после гибели супруга! И не мучиться угрызениями совести! Алисия Беренсон – хладнокровная убийца!
Возможно. Однако не стоит упускать из виду одну немаловажную деталь: даже если Алисия и убийца, она еще и художник. И тогда все встает на свои места (по крайней мере, для меня). Алисия хватается за кисти и краски и переносит на холст терзающие душу чувства и переживания. Неудивительно, что на сей раз живопись приходит к ней с такой легкостью. Если горе можно назвать «легким»…
Картина представляла собой автопортрет. В левом нижнем углу Алисия нанесла на холст название светло-голубыми греческими буквами.
Всего одно слово: «Алкеста».
2
Алкеста – героиня греческой мифологии. С ней связана одна из самых печальных историй любви. Алкеста добровольно отдала свою жизнь ради супруга, Адмета, согласившись умереть вместо него, поскольку все остальные отказались. Казалось бы, какое отношение трогательная легенда о самопожертвовании имеет к Алисии? Истинное значение намека долгое время оставалось неясным и для меня. Но однажды правда вышла наружу…
Впрочем, я слишком тороплюсь и забегаю вперед. Начну с самого начала, и пусть события говорят сами за себя. Я не стану ничего приукрашивать, менять местами или перевирать. Пусть то, что случилось, предстанет перед вами постепенно, шаг за шагом.
С чего начать? Наверное, мне следовало бы представиться… Но нет, пожалуй, пока останусь в тени. Ведь рассказ не про меня. Главная героиня истории – Алисия Беренсон. Вот и начнем с нее. И с «Алкесты».
Картина, написанная Алисией сразу после убийства Габриэля, – это автопортрет. Художница изобразила себя дома, в своей студии, стоящей у мольберта с кистью. Алисия обнажена. Ее тело прорисовано в мельчайших деталях: по худощавым плечам рассыпались длинные пряди рыжих волос, сквозь бледную кожу просвечивают голубоватые вены, на обоих запястьях свежие шрамы от недавних порезов. В одной руке Алисия держит кисть, зажав ее между пальцами. С кончика кисти капает алая краска – или кровь? Алисия изобразила себя пишущей картину, и тем не менее холст нетронут. Он пуст, как и выражение ее лица. Алисия смотрит на зрителя через плечо, повернув голову назад. Губы разомкнуты, словно в беззвучном крике.
Пока шли судебные заседания, Жан-Феликс Мартен, управляющий небольшой галереей в Сохо, где выставлялись работы Алисии, принял неоднозначное решение показать «Алкесту». Это вызвало осуждение. Одни потом называли его поступок сенсационным, другие – чудовищным. Зато факт, что автор картины находилась в тот момент на скамье подсудимых по обвинению в убийстве собственного мужа, обеспечил галерее Мартена огромные очереди – впервые за всю историю ее существования.
Стоя рядом с другими такими же ценителями искусства, я терпеливо ждал. Над нами ярко горели красные неоновые огни вывески магазина интимных товаров, находящегося по соседству от галереи. Очередь двигалась медленно, люди по одному осторожно заходили внутрь. Оказавшись в самой галерее, посетители, словно под гипнозом, шли в едином направлении, как возбужденная толпа на ярмарочной площадке, пробивающаяся через дом с привидениями. Наконец подошла моя очередь, и передо мной предстала «Алкеста».
Я уставился на картину. Смотрел в глаза Алисии, пытаясь угадать, почему у нее такой взгляд, пытаясь что-то понять, – но ничего не получалось. Портрет «молчал». Алисия безмолвно взирала на меня с холста. Пустая маска – непроницаемая и не поддающаяся прочтению. Как я ни силился, так и не смог определить по выражению лица, виновна она или нет.
Другие решили, что им это удалось.
– Настоящая злодейка, – прошипела женщина, стоявшая позади меня.
– Еще бы, – ответил ей мужчина. – Хладнокровная стерва.
«Ого! Категорично», – пронеслось у меня в голове. Ведь вина Алисии еще не доказана. Но благодаря усилиям желтой прессы общественное мнение было уже сформировано. Журналисты с самого начала повесили на Алисию ярлык злодейки: роковая женщина, «черная вдова», чудовище.
Факты же были просты. Полицейские застали Алисию в доме одну, с телом Габриэля. На винтовке обнаружены только ее отпечатки. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения – мужа застрелила именно Алисия. Зато вопрос, почему она это сделала, оставался без ответа.
Убийство Габриэля активно обсуждали в масс-медиа. В газетах, по телевидению и на радио были выдвинуты самые разные теории на этот счет. Приглашенные специалисты обвиняли, оправдывали, объясняли. Она наверняка должна была стать жертвой бытового насилия со стороны мужа, чтобы ситуация зашла так далеко. Согласно другой теории, убийство – результат неосторожности в ходе сексуальных игр супругов, ведь Габриэля обнаружили со связанными руками и ногами. Кто-то подозревал, что это самое обыкновенное убийство на почве ревности. Скорее всего, Габриэль завел любовницу. Однако на суде брат охарактеризовал убитого как преданного мужа, по-настоящему любящего жену. Тогда, возможно, мотивом послужили деньги? Но Алисия мало что выигрывала в результате смерти мужа. Она была обеспеченной женщиной, унаследовав большое состояние своего отца.
Так и продолжались бесконечные пересуды об убийстве Габриэля и последующем молчании Алисии. Ответы не находились, становилось лишь больше вопросов. Почему она отказывается говорить? И что это значит? А может, она пытается что-то скрыть? Или защитить кого-то? Если да, то кого? И почему?
Помню, я тогда поймал себя на мысли: в то время как все говорили, писали и спорили об Алисии, в эпицентре этого шумного и неистового вихря оставалась пустота – тишина. Вакуум. Загадка. На одном из заседаний судья Алверстоун довольно критично высказался об упорном отказе подсудимой говорить.
– Невиновные люди не стесняются открыто заявить о своей невиновности! – произнес он.
Однако Алисия Беренсон не только продолжала молчать, но и не выказала ни единого признака раскаяния. Из ее глаз не упало ни слезинки – этому факту журналисты придали особенное значение. Ее лицо было неподвижным, холодным, застывшим.
Представитель защиты решил пойти по единственно возможному пути и объявил о частичной вменяемости подсудимой. Он сказал, что проблемы с душевным здоровьем начались у Алисии очень давно, еще в детстве. Основную массу этих сведений судья Алверстоун отклонил как неподтвержденные. Однако под конец заседания профессору Лазарусу Диомидису удалось несколько поколебать категоричность судьи Алверстоуна. Лазарус Диомидис был профессором судебной психиатрии в Королевском колледже, а также занимал должность руководителя клинических исследований в Гроуве – охраняемой психиатрической больнице на севере Лондона. Так вот, он утверждал, что молчание Алисии является красноречивым свидетельством перенесенного сильнейшего стресса и это необходимо учесть при вынесении приговора. Если отставить витиеватые выражения, то фактически профессор высказал то, о чем психиатры очень не любят говорить прямо и открыто, а именно: Алисия душевно больна.
Это казалось единственным логичным объяснением всего случившегося. Иначе зачем ей связывать любимого супруга и стрелять ему в лицо в упор? И чтобы после такого не было раскаяния и объяснений? Она вообще не говорит. Сумасшедшая, не иначе.
В конце концов судья Алверстоун объявил, что принимает заявление защиты, и обратился к присяжным, чтобы это обстоятельство было ими учтено.
Было решено перевезти Алисию Беренсон в Гроув – под наблюдение профессора Диомидиса, заявление которого сыграло ключевую роль в решении суда. С другой стороны, если Алисия находилась в здравом уме и ее молчание было лишь умелым притворством, надо признать – хитрость удалась. Алисию приговорили к длительному тюремному заключению, однако в случае восстановления душевного здоровья через несколько лет ее могли бы досрочно освободить. И вот как раз сейчас Алисии бы самое время начинать «выздоравливать», верно? Пробормотать пару слов, сначала невнятно, потом еще и еще… Затем через силу выдавить слова раскаяния…
Ничего подобного! Шли недели, месяцы сменяли друг друга, минуло несколько лет – Алисия по-прежнему хранила молчание. Она не произнесла ни единого слова. Поскольку не последовало никаких откровений, постепенно интерес разочарованных журналистов к Алисии Беренсон иссяк. Для публики она стала очередной строчкой в длинном списке некогда известных преступников. Одной из тех, чьи лица большинство людей еще могут вспомнить, но имя уже забудут.
Большинство людей, однако не все. Некоторых, и меня в том числе, продолжало волновать загадочное дело молчаливой Алисии Беренсон. Как психотерапевт я не сомневаюсь, что во время убийства Габриэля ей пришлось перенести какую-то чудовищную душевную травму. И отказ говорить стал проявлением пережитого глубокого потрясения. Она не сумела свыкнуться с мыслью о совершенном ею убийстве, дрогнула и остановилась, будто сломанный автомобиль. Я мечтал помочь «запустить» ее снова, помочь ей рассказать свою историю, принять лечение и поправиться. Я хотел «починить» ее. Наверное, это прозвучит несколько самонадеянно, но я считал себя исключительно квалифицированным специалистом, способным помочь Алисии Беренсон. Я судебный психотерапевт и частенько имею дело с самыми надломленными и уязвимыми членами общества. И еще: кое-что в истории Алисии задело меня за живое. С самого начала я испытывал к ней искреннее сочувствие. К несчастью, в те дни я работал в Бродмуре[4 - Бродмур – знаменитая лечебница для маньяков.], и мысли о работе с Алисией так и остались бы лишь мечтами, если бы в дело неожиданно не вмешалась судьба.
Лет через шесть после того, как Алисию поместили в Гроув, там открылась вакансия судебного психотерапевта. Увидев объявление, я сразу понял, что у меня нет выбора. Повинуясь интуиции, я отправил резюме в Гроув.
3
Я – Тео Фабер. Мне сорок два года. Судебным психотерапевтом я стал из-за того, что крупно облажался. И это чистая правда, хотя, конечно же, это не то, о чем я говорил на собеседовании.
– Что привело вас в психотерапию? – спросила Индира Шарма, буравя меня взглядом поверх массивных очков.
Индира работала в Гроуве консультирующим психотерапевтом. Хотя ей было сильно за пятьдесят, круглое лицо еще сохраняло привлекательность, а в длинных угольно-черных волосах лишь изредка проблескивало серебро. Индира слегка улыбнулась, давая понять, что этот вопрос не из разряда сложных – лишь формальный разогрев перед настоящей беседой.
Я медлил с ответом, физически ощущая на себе пристальные взгляды остальных членов комиссии. Старательно глядя им в глаза, я протараторил заранее приготовленный ответ: милую сказочку про то, как в юности подрабатывал в доме для престарелых и как это разожгло во мне интерес к психологии. Затем – аспирантура по специальности психотерапия, и пошло-поехало.
– Думаю, я просто хотел помогать людям, – пожимая плечами, заключил я.
Что было откровенной чушью.
Нет, я, конечно, хотел помогать людям. Однако это было второй моей целью, особенно когда я начал посещать практические занятия. Настоящая причина, по которой я ввязался в психотерапию, была сугубо эгоистическая. Я хотел помочь самому себе. Уверен, большинство из тех, кто связал свою жизнь с лечением душевнобольных, пришли в профессию примерно так же. Она притягивает нас потому, что мы сами надломлены. И тогда изучение психологии становится попыткой излечить себя. Осознанной или неосознанной попыткой – это уже другой вопрос.
Самый ранний период развития человечества скрыт во тьме веков. Многие думают, что люди возникли из некоего первородного тумана полноценно сформированными личностями, подобно Афродите, вышедшей во всей красе из пены морской. Однако благодаря активно развивающимся исследованиям деятельности головного мозга мы знаем, что это далеко не так.
Мы рождаемся с наполовину сформированным мозгом, который представляет собой скорее комок глины, а не бога-олимпийца. Как сказал психоаналитик Дональд Уинникотт: «Отдельного понятия “младенец” не существует». Развитие человеческой личности происходит не в изоляции, а только в процессе взаимодействия друг с другом. Нас формируют и заканчивают этот процесс невидимые силы, которые мы не запоминаем, – наши родители. Страшновато, правда? Кто знает, каким унижениям и наказаниям мы подвергались в то время, когда память еще не сформировалась? Наша личность уже была сформирована, а мы даже не знали об этом.
Я рос нервным, легко возбудимым и пугливым ребенком. Повышенная тревожность появилась еще до того, как я осознал себя как личность, и совершенно от меня не зависела. Подозреваю, что источник этой психологической неустойчивости крылся в моих отношениях с отцом, рядом с которым я никогда не был в безопасности.
Случавшиеся у отца непредсказуемые, произвольные припадки сильнейшей ярости превращали любую, даже самую благоприятную ситуацию в минное поле. Самая безобидная фраза или выражение малейшего несогласия могли спровоцировать целый ряд «взрывов» агрессии, спастись от которых было невозможно. Стены дома буквально сотрясались от его крика, пока он гнался за мной на второй этаж. Влетев в свою комнату, я проскальзывал подальше под кровать и изо всех сил прижимался к стене. Вдыхал пыльный воздух и молился, чтобы меня поглотила кирпичная кладка и я мог исчезнуть. В следующее мгновение отцовская рука крепко хватала меня и выволакивала из-под кровати, возвращая к реальности. Он срывал с себя ремень и замахивался. Ремень со свистом рассекал воздух, а дальше один за другим на меня сыпались жгучие косые удары, обжигая мне тело. Порка заканчивалась так же внезапно, как и начиналась. Отец отшвыривал меня прочь, и я валился на пол мятой кучей, словно тряпичная кукла, брошенная злым ребенком.
Я никогда не был уверен, что такого сделал, чтобы вызвать весь этот гнев, и заслуживал ли я наказания. Однажды я спросил маму, почему папа так часто на меня злится. В ответ она лишь пожала плечами и грустно проговорила: «Откуда я знаю? Твой отец – законченный псих». Говоря так, мама не шутила. Если б моего отца сейчас обследовал психиатр, то наверняка диагностировал бы у него расстройство личности. Отец страдал от этой болезни всю жизнь, но никто его не лечил. В результате мои детские и юношеские годы прошли в мрачной атмосфере истерии и физического насилия: ругани, слез и битого стекла.
Конечно, были и счастливые моменты. Чаще всего – когда отца не было дома. Помню, как-то зимой он на месяц уехал в командировку в Америку. И на целых тридцать дней дом и сад оказались в нашем с мамой полном распоряжении, без него и его бдительных взглядов. Декабрь в Лондоне выдался снежный, и весь сад скрылся под чистейшим белым покрывалом. Мы с мамой слепили снеговика. Уж не знаю, осознанно или нет, но мы сделали его похожим на отсутствующего главу дома – с огромным животом, двумя черными камешками вместо глаз и парой веточек, напоминавших грозно сдвинутые брови. Я назвал снеговика «Папа», и он действительно здорово смахивал на отца. В довершение иллюзии мы с мамой снабдили снеговика папиными перчатками, шляпой и зонтом. А потом от души бомбардировали его снежками, хихикая, словно расшалившиеся дети.
В ту ночь разыгралась сильная снежная буря. Мама подошла к моей кровати, я притворился, что уже сплю, а потом выскользнул из дома в сад и долго стоял под падающим снегом. Вытянув руки, я ловил падающие снежинки и смотрел, как они медленно тают на кончиках пальцев. Я радовался и грустил одновременно – и, по правде говоря, не мог выразить это словами. Мой словарный запас был слишком мал, чтобы поймать это сетью из слов. Наверное, ловить исчезающие снежинки – это как ловить счастье, когда овладение в итоге ничего тебе не дает. Это напомнило мне, что там, за пределами родительского дома, целый мир: огромный, непередаваемо красивый мир. Мир, который пока для меня недоступен. Снежная ночь в саду вставала перед моим мысленным взором еще много лет. Как если б невзгоды, которыми та жизнь была окружена, заставляли этот миг свободы гореть еще ярче – будто крохотный огонек посреди беспросветного мрака.
Я пришел к выводу, что единственный шанс выжить – побег. И в физическом, и в духовном смысле. Надо убираться отсюда, чем дальше – тем лучше. Только так я смогу быть в безопасности. И вот мне стукнуло восемнадцать, я получил достаточные отметки и стал студентом. Без сожалений простившись с отчим домом в Суррее, я наивно полагал, что вырвался на свободу.
Как же я ошибался! Тогда я еще не знал этого, но было уже поздно: образ отца прочно засел внутри меня. Я внедрил его в себя, спрятав в области бессознательного. Куда бы я ни бежал, я нес его с собой. В голове звучал адский, неумолимый хор из размноженных голосов отца: «Бестолочь! Позор! Ничтожество!»
Во время экзаменационной сессии на первом курсе голоса стали настолько парализующими и громкими, что уже контролировали меня. Обездвиженный этим страхом, я был не в состоянии выйти на улицу, общаться, заводить знакомства. С тем же успехом я мог бы и не уезжать из дома. Я очутился в ловушке, угодил в патовую ситуацию без какой-либо надежды на спасение. Выхода не было.
Неожиданно подвернулось одно решение.