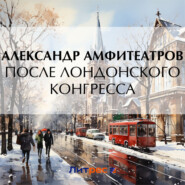По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Марья Лусьева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Еще бы! И еще сколько! Спросите Адель: она вам покажет.
Лусьева вздохнула с облегчением.
– Ну, если уж Ольга, – хорошо, в таком случае, я согласна…
– Ишь какая, нехорошая! – ревниво попрекнула Жозя. – Ольге своей противной верит, а мне нет!..
– Да не то, Жозенька, – как вы можете думать?.. Но она такая осторожная, благоразумная… Только уж вы, Жозя, научите меня, как что надо сделать там, с векселем… Я ведь на этот счет круглая дура, ничего не знаю…
– Да вы обратитесь к Адели!.. хотите, я сегодня же ей скажу, что вы желаете?.. Она вам все устроит…
Разумеется, фантастический шестимесячный вексель, выданный в тот же самый день Марьею Ивановною Лусьевой, за подписью Ивана Артемьича Лусьева, очень изумил бы всякую банкирскую контору, в которую был бы представлен к учету, но – он никогда ни в какую банкирскую контору и не предназначался, а очень мирно и спокойно улегся в несгораемом шкафу госпожи Рюлиной, в плотный полотняный конверт большого формата, с пометкою лиловыми чернилами: «Люлю». Таких конвертов, плотно набитых какими-то бумагами, покоилось довольно много в шкафу. Были конверты Жози, Ольги, даже Люции, – всех, кроме Адели. Хотя денег по векселю Рюлина, конечно, ниоткуда не получала, тем не менее благодарность за то, что Маша «выручила», была разыграна очень трогательно, а счеты из магазинов, касавшиеся Машиных заборов, были с благородством изорваны на глазах девушки. Надо ли говорить, что действительная сумма к уплате по счетам была впятеро меньше цифр, поставленных Аделью? Вместе с тем Маше дали понять, что платить проценты по векселю – конечно, входит в ее обязанность и что процентов будет довольно много, а вексель придется переписывать часто, так как кредит-де – самый трудный и краткосрочный.
XVI
Прошло три месяца, сильно двинувших Марью Ивановну вперед по пути «просвещения». Каждый месяц вексель ее переписывался, и каждый раз надо было доставать денег для процентов – действительно, огромных, зверских процентов: сперва Адель потребовала двести рублей, во второй раз уже триста, а на третий месяц пришлось найти и все пятьсот. Минули те времена, когда у Маши Лусьевой дрожала испугом душа при одном звуке таких цифр. Теперь она знала, что рубли в сотнях – очень небольшие деньги для хорошенькой барышни, «которая не дура», и доставала их очень легко.
Стоит только поплакать да надуться на целый вечер, – Сморчевский заплатит. А не Сморчевский, так Фоббель. А не Фоббель, так Бажоев…
Изменился и тон, которым Адель спрашивала проценты. В первых двухстах рублях она извинялась, умоляла занять их, сконфуженная, уверяла, что охотно внесла бы свои, если бы стояли лучшие времена, а то все еще никак не соберется с деньгами и не оправится от недавнего разгрома. На второй месяц извинения были уже гораздо слабее.
– Прямо несчастие мне с вами, Люлю, по этому векселю: как ему срок, так у меня касса пуста… фатум какой-то!.. Уж нечего делать, попросите опять у Сморчевского… старик выручит: он вас любит…
А в третий платеж она просто уведомила – почти что приказала:
– Люлю, через четыре дня вам платить пятьсот… Старайтесь, деточка Люлюшечка, добывайте!..
И «деточка Люлюшечка» добывала: хныкала, капризничала, жаловалась на судьбу, на злых людей, плакала, уверяла, что «лучше отравиться», и «деточку Люлюшечку» спешили развеселить и утешить. А затем:
– Кажется, я заслужил поцелуй?
– Сморченька, миленький! Да хоть двадцать!
– А Люлюша споет нам «Connaissez vous l'histoire d'un vieux curе de pays»?[33 - «Известна ли вам история старого деревенского кюре»? (фр.).]
– Фи, Бажоев, вам бы только гадости слушать!.. Ну да уж хорошо, спою, спою!.. для вас!.. противный!..
Раздобывала Маша такими способами деньги для «процентов» Адели, раздобывала и для себя. При всем том, – хочется человеку всегда хорошо о себе думать! – она и не воображала, что она продается, и очень бы удивилась, если бы ее укорили в том. Продаются кокотки, камелии, проститутки. Продаваться – это значит принадлежать мужчине телом за деньги, а два-три пьяных поцелуя, даже объятия, скабрезная песенка, фривольный жест… какая же тут самопродажа? Помилуйте? Что за невидаль при добрых дружеских отношениях? И, наконец, это добрая воля Сморчевского – дать или не дать денег. Чем Маша виновата, если он такой нервный и щедрый человек, что согласен лучше заплатить за хорошенькую женщину все маленькие долги ее, чем видеть ее в слезах. А когда выпадает такое счастье, глупо им не пользоваться. Маша не миллионерка, Сморчевский и прочие доброхотные датели от того не обнищают, а бедной девушке будет на что поправить свои обстоятельства и выполнить обязанности к своим друзьям.
Впивая эту мораль, Маша, тем не менее, иногда смущалась втайне своим поведением и испытывала угрызения совести. Стали проявляться у нее и кое-какие подозрения, что среда, где она увязла, не только веселящаяся, но и жуликоватая, и развратная. Рюлина и ее приспешницы еще скрывали от Маши кое-что, и даже очень многое, и даже самое главное, но уже часто проговаривались словами и попадались на фактах, совсем не согласных с первоначальным высоким тоном, который Лусьева встретила в доме. Так, например, узнала Маша, что, столь часто поминаемый всуе, покойный «генерал» Полины Кондратьевны, якобы повинный в безобразных картинах ее спальни и во многих других неприличиях, никогда ни генералом, ни даже военным не был, и по паспорту госпожа Рюлина писалась вдовою губернского секретаря.
А кроме того, никто и никогда этого таинственного губернского секретаря Рюлина при великолепной супруге его не видывал, и прозябал он, и помер неведомою смертью где-то за тридевять земель, в тридесятом царстве, не то в Асхабаде, не то в Благовещенске. Само собою разумеется, что столь отдаленный губернский секретарь никак не мог быть ни сослуживцем, ни тем более боевым товарищем великого князя, любовника Жени Мюнхеновой, которым Адель хвалилась Маше в первый день знакомства. Вообще, великокняжеские сказания Адели, – права была Ольга Брусакова! – мало-помалу очень слиняли и выцвели.
Например, оказалось, что тот великий князь, герой романа Жени Мюнхеновой, не только не близкий друг дома, как уверяла Адель, но и всего-то лишь дважды, за всю жизнь свою, удостоил укромный рюлинский особнячок высочайшим посещением инкогнито. Один раз, ненароком, прямо с какого-то гвардейского полкового праздника, полупьяный, с компанией офицерской золотой молодежи, наговорившей ему чудес о волшебной красоте Жени Мюнхеновой, которая тогда проживала у Полины Кондратьевны на положении воспитанницы: тут-то он, действительно, и влюбился! А в другой раз – уже нарочно, чтобы увезти Женю из-под гостеприимного генеральшина крова в приобретенный для нее дом на Английской набережной.
В качестве устроительницы и посредницы сего беззаконного союза генеральша содрала с его высочества какой-то едва вообразимый огромный куртаж. Так что даже сама сконфузилась и восчувствовала признательность к виновнице такого успешного грабежа. Женя Мюнхенова сделалась для нее самым любимым, поэтическим воспоминанием, почти до культа. История Жени развилась в эпопею дома, которою обязательно «просвещаются» рано или поздно все, вновь входящие к Полине Кондратьевне, дамы и барышни: вот, мол, пример для вас, поучайтесь и подражайте!
Однако, по сплетням Жози, сама-то Женя, как скоро выбралась с Сергиевской, порвала с генеральшей все сношения, ни к ней не бывала, ни ее у себя не принимала. Даже ее портрет знаменитый был вовсе не заказан генеральшею, как хвастала Адель, но попал к ней совершенно случайно.
Когда Женя, наскучив любовью великого князя, сбежала от него на манер Периколы или Бетгины из «Маскотгы», покинутый любовник в неистовом бешенстве приказал убрать с глаз долой все вещи, напоминавшие ему коварную изменницу. Портрет же (к слову сказать, писанный совсем не Константином Маковским, а каким-то случайно заезжим и мало ведомым французом) – уничтожить. Камердинер князя, рассудив, что хорошая живопись денег стоит, спустил портрет за двести рублей маклерше, а та предложила его Полине Кондратьевне за тысячу и отдала за пятьсот. Так как манера француза напоминала Константина Маковского, то Адель нашла, что будет шикарно приписать картину этому последнему и, владея несколько кистью, намазала внизу портрета, в углу, довольно неясно подделанную подпись русской знаменитости… А затем сфабрикованный кумир водрузили в святилище, и вокруг него обвились легенды, столь увлекательные, что, в конце концов, им едва ли не верили и сами, их творившие.
XVII
Прошлое Полины Кондратьевны тоже тонуло в легендах. По-видимому, она была действительно хорошего происхождения, потому что, даже сквозь налет многолетнего авантюризма, проблескивала следами прекрасного воспитания, какое давали только благородным девицам строгие институты пятидесятых годов. Она знала множество анекдотов из быта Смольного в его славную «Леонтьевскую» эпоху и, может быть, в самом деле, была заблудшею овцою из стада смольнянок.
Но далее следовали провал и мрак. Вспоминали одно: что смолоду Полина Кондратьевна существовала (и весьма шикарно) на иждивении того самого графа Иринского, который и посейчас не оставляет ее, хотя уже старуху, своими милостями. Вся великолепная обстановка рюлинских аппартаментов, до скверных картин включительно, – от графа и его друзей; а в числе их, и впрямь, имеются два-три высокопоставленных лица, более известных распутством и казнокрадством, чем служебными доблестями, и некоторые великие не столько князья, сколько князьки второстепенного значения в фамилии, но первостепенно громкой скандальной репутации и в российской, и в чужеземных столицах. Граф Иринский – страшный потайной развратник, но он осторожен и не доверяет страстей своих никому, кроме Полины Кондратьевны; она, когда-то его любовница, теперь осталась его альковною поставщицею и вознаграждается за то огромными суммами. На таинственных рюлинских «вечерках» графская компания чувствует себя гораздо более дома, чем сама хозяйка, и безобразничает так, что плюнуть хочется, – потому-то Полина Кондратьевна и выживает из дома на это время лишние глаза и уши…
Об Адели Жозя насплетничала Маше на ушко, что у той есть старик, к которому она ездит в Царское Село каждые вторник и субботу. Адель же, даже не на ушко, сообщила про Жозю, что у нее старики имеются чуть ли не на все дни недели, кроме воскресенья, оставленного для молодых. Люция то и дело выходила из роли горничной, обмолвливалась на «ты» с Жозею, с Ольгою, даже с Аделью… Однажды, когда Маша ночевала у Адели, Люция возвратилась откуда то на рассвете вместе с Жозею и еще с какою-то незнакомою Маше, но весьма фамильярною ко всем, девицею. Все три были мертво пьяны, а Люция даже до беспамятства. Жозю и фамильярную девицу Адель быстро спрятала куда-то. Но Люция бродила по всей квартире, ругаясь площадными словами, уселась к роялю и добрые полчаса колотила по клавиатуре кулаками, визжа фабричные песни. Никто – ни Адель, ни Полина Кондратьевна – не посмел к ней подступиться, покуда ее самое не сморило сном. Тогда она без церемонии повалилась на кровать Адели и захрапела. Маша была уверена, что негодяйку немедленно рассчитают, но назавтра Люция, как ни в чем не бывало, снова служила в доме, и только щеки у нее как будто немножко поприпухли да глаза покраснели, заплаканные… Вообще, правда дома начала сквозить из-за временных декораций его очень ярко: Лусьеву считали благоприобретенною уже настолько крепко, что очень далеко прятать карты от нее не стоит…
XVIII
В один роковой день, тоже после ночевки в доме Рюлиной, Маша, ненароком, из соседней комнаты, подслушала странный деловой разговор между Аделью и утренним визитером, неким господином Криккелем, – пшютом и дельцом, всему Петербургу известным, необходимым в каждом шикарном кружке и клубе, в каждом громком предприятии, в каждой модной забаве. Столица еще не успела разобрать, кто он – капиталист или мошенник. В газетах его величали «финансистом», а люди опытные усматривали в нем вызревающий «прокурорский фрукт». Но он шел в гору, и настоящие финансовые тузы-дельцы смотрели на него, туза-аплике, уже довольно благосклонно. Ему очень хотелось проникнуть интимно в тесный кружок Сморчевского и Фоббеля, и он делал для этого множество шагов, заигрываний, усилий.
– Не могу, Отгон Эдуардович, – говорила Адель. – Честное слово, не могу. Вы знаете, я для вас, по старой дружбе, готова на все, что угодно. Но ведь я не хозяйка. А Полина Кондратьевна – кремень: знает только свой prix fixe[34 - Постоянная, твердая цена (фр.).]. По полтораста на рыло, за Люлюшку три «сотерна». Entweder – oder[35 - Или – или; одно из двух (нем.).]. Если я сделаю вам уступку, мне придется доложить из своих: «генеральша» у нас строгая…
– Дьявольски дорого, Адель.
– Что же делать? На то мы рюлинские. Буластиха или Перхунова устроят дешевле. Подите к ним. А то Юдифь…
– Все это, Адель, я знаю, да что пустяки болтать? Не тот шик…
– А если шик нужен, не скупитесь.
– Да! не скупитесь! У меня миллионов нет.
– Будут.
– Вашими бы устами мед пить. И за что так дорого? Ну за что? Только что посидят за столом в самом избранном обществе, скушают отличный ужин, проведут весело время…
(В 1902 году московский обер-полицеймейстер обратил внимание на странный новый класс женщин, приличных по имени, званию, состоянию, живущих на хороших квартирах одиноко или полуодиноко и почему-то выставляющих на доске подъезда вымышленную фамилию – не ту, что значится в паспорте и домовой книге. По расследованию причин, вызвавших в свое время приказ, тоже усердно цитированный газетами, оказалось, что ложные имена псевдонимных дам хорошо известны в мирке шикарных сводниц, ходебщиц и богатых прожигателей жизни. Дамы откровенно признавались, что источником средств к жизни являются для них ужины в веселых мужских компаниях, к которым приглашают их, через разных посредников и посредниц, московские кутилы и, в особенности, наезжие «бразильянцы»: дельцы и жуиры из провинции. Это – уже demimonde[36 - Полусвет (фр.).], но нет улик и «состава преступления», чтобы причислить ужинающих дам к проституции. На первом показном плане здесь – веселое времяпровождение, а торговля полом так ловко тушуется за флиртом и ухарским житьем, что многие профессиональные soupeuses[37 - Здесь ироннч.: любительницы поужинать, содержанки (фр.).] совершенно искренно считают себя женщинами хотя шальными, безумными, порочными, но отнюдь еще не падшими и продажными. В Петербурге класс этот особенно быстро и широко развился в последние годы, когда роскошь мод, прогрессируя с каждою зимою, переделала множество слабых семей в mеnages ? trois[38 - Семья втроем (фр.).], составляющихся из жены, мужа и богатого содержателя или богатых содержателей, платящих счета за туалеты. В числе известных soupeuses много наезжих провинциалок, причем юг оказывается наиусерднейшим поставщиком.)
– А вам бы еще чего? – засмеялась Адель. – Ишь, баловник! А сидеть с вами, кутилами безобразными, разве не труд? Из вашего брата теперь озорники пошли хуже, чем из купцов. Вон – Бажоев, черт старый, третьего дня Жозе на платье бутылку шамбертена опрокинул… Платье триста рублей стоило, а его бросить надо: хуже этих бургонских вин нет, ни за что пятно не отойдет… А получила-то я те же полтораста…
– Не врите, Адель, – уж, наверное, Бажоев заплатил…
– Да, он-то заплатил, потому что он ужасно какой благородный, а другой не заплатит, и ничего с него не возьмешь. Нас обидеть легко… Мы не хористки, не кокотки, скандала поднять не смеем, должны репутацией дорожить…
Криккель считал:
– Следовательно, вы, Эвелина, Жозя – по полтораста, да Люлю триста… семьсот пятьдесят… Уф, даже в жар бросает!..
– Может быть, Люську к концу ужина привезти?
Криккель оживился:
– Эту? Горничную-то? Которая русскую пляшет и песни поет? Привезти, непременно привезти! Панамидзе от нее без ума…
– Двести пятьдесят рублей, – сказала Адель.