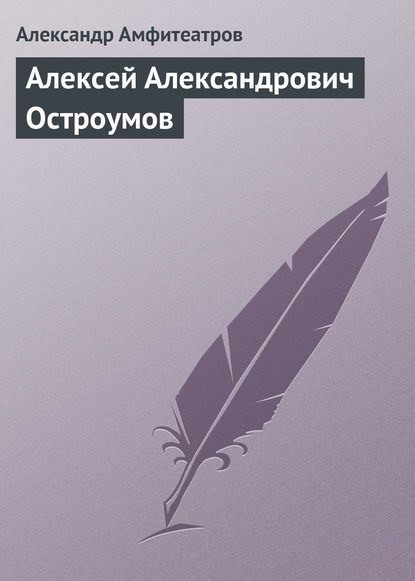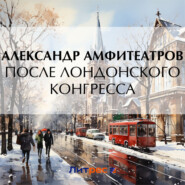По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алексей Александрович Остроумов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В мое университетское время А. А. Остроумов был очень любим студенчеством. На знаменитых, угасших ныне праздниках 12 января в Татьянин день ему всегда устраивали овации, наряду с Чупровым, Ковалевским, качали его, заставляли его говорить речи, чего он терпеть не мог. Чтобы вознести Остроумова на стол, мы всегда выдерживали целую борьбу, ибо он упирался, хватаясь за что ни попадя, ругаясь и проклиная, даже рассыпая тузы и пинки. Очутившись на столе, красный, растрепанный, обозленный, с оборванною фалдою, он минуты две искреннейшим образом «лаялся» с хохочущею толпою насильников своих, а, поуспокоившись, говорил очень хорошо – грубовато, но образно, ярко, с резкими, солеными остротами – настоящим оратором-демократом из семинарской школы шестидесятых годов… Впоследствии симпатии студенчества к Остроумову, кажется, поблекли. Профессор в России так поставлен, что не токмо физиологом быть, но даже о корнях санскритских читать мудрено ему без политической физиономии. Думаю, что Остроумов совершенно не годился в политические фигуры и, стараясь, сам не заметил, как в этом отношении из авангарда попал в арьергард. Но в университетских историях нашего времени он вел себя либералом истинно передовым и боевым, очень мужественно и стойко. Своим напористым юмором и прямолинейным отрицанием бюрократических компромиссов он придавал в профессорском совете немалую силу оппозиции, отстаивавшей староуставные корпоративные права. Университет, науку, положительное знание он ставил необычайно высоко – возносил как бы на некий Синай жизни. Припоминаю одну прогулку в подмосковном Богородском. Остроумов, Александр и Алексей Ивановичи Чупровы, и я, студент третьего курса. Остроумов в духе.
– Давайте, братцы, петь хором!
И затягивает громовым, трескучим басом:
Илья Пророк пред громом
Пьет завсегда чай с ромом…
Сорокалетнего юношу Александра Ивановича Чупрова, конечно, сахаром не корми, только дай вспомнить и совершить что-нибудь молодое, буршеское. И вот идут мои ординарные профессора просекою, тычут перед собою палками в воздух и вопят истошными голосами:
Аристотель оный,
Древний философ,
Продал панталоны
За настойки штоф!
Цезарь, сын отваги,
И Помпей-герой
Продавали шпаги
Тою же ценой!
– Саша! спой: «На земле весь род людской!»
Я извиняюсь, что уже поздний вечер, сыро, боюсь простудить горло, на голосе скверно отзовется.
– Велика важность! Что ты? в опере, что ли, собираешься петь?
– Именно, Алексей Александрович. Его так и тряхнуло.
– Как? Ты думаешь идти на сцену?
– Непременно, Алексей Александрович.
– Это из университета-то? Это племянник-то Чупрова? В актеры? В дармоеды? Да – какое же ты право имел в университете место занимать? Затеял глупости, так хоть место-то уступи, другому света не засти!
В жизнь свою не получал я подобной взбучки! Так что уж Александр Иванович сжалился и заступился, напоминая Остроумову одного из его слушателей, успешно променявшего медицину на оперную сцену.
Не тут-то было! Огрызнулся:
– Так ведь тот был болван, осиновая голова, туда ему и дорога! А у Сашки в голове мозги есть. Ах, Сашка! Сашка! Не ожидал я от тебя! Право, не ожидал!
Самородный талант с головы до ног, Остроумов ненавидел кропотливых Вагнеров в науке и бездарностей, ползущих в карьеру, держась за хвостик тетеньки. Хотя надо признаться: по добродушию, скрытому под его грубостями, Остроумов и сам протащил не мало таких господ из грязи в князи. Помню один диспут докторский, на коем Остроумов вдруг до того обозлился, что даже заговорил с докторантом на «ты»:
– Эх, такой-то! Носил ты, носил ко мне свою диссертацию, поправлял я тебе ее, поправлял, а все равно ты ничего не понял и ничего у тебя не вышло!..
Ему делают знаки, шипят:
– Алексей Александрович! что вы? как можно? Алексей Александрович!
Опомнился, нахмурился, покраснел. Спрашивает отрывисто:
– Опыты вы делали? Растерявшийся докторант лепечет:
– Да-с, делал.
– Какие?
– Ма… ма… маленькие!
– Оно и видно, что маленькие!
В зале, конечно, буря хохота. Любопытно, что докторанта все-таки удостоили степени, – вероятно, в вознаграждение за претерпенное бесчестие. В настоящее время это очень известный врач, но легенда о «маленьких опытах» так и припечаталась к имени его, с нею он и в могилу ляжет.
Припоминая разговоры Остроумова, я неизменно вижу мрачную, скептическую мысль, угрюмо глядевшую в прорези веселой его маски.
– Меня считают хорошим диагностом, – говорил он однажды отцу моему. – А знаете, почему я хороший диагност? Потому, что хорошо учился логике. Да! Законом исключения третьего вертеть умею и в силлогизмах собаку съел. Большинство моих коллег зарылось в сугробах специального знания до того, что с головою в них провалилось. Есть много врачей, знающих больше меня, но они не логики. А я логик. Большим диагностом без логики быть нельзя. Диагноз – торжество силлогизма и закона исключения третьего.
Я большой скептик по части медицины. Думаю, что скептицизм этот развился во мне, главным образом, под юным впечатлением великого врача, который сам сомневался в своем искусстве, а, может быть, и в своей науке. Помню – тоже в Богородском, тоже в лесу на прогулке – Остроумов говорил Александру Ивановичу Чупрову по поводу брата его, Алексея Ивановича:
– А кто его знает, что ему полезно? Пробовать будем… Выпадет счастливая проба, – десять лет протянет, выпадает несчастная, – окочурится… Вон прежде мы всех туберкулезных, без разбора, в Крым посылали. А теперь я убедился, что для тех, которые лихорадят, Крым – яд. Вот и подумай: прежде, чем убедиться-то, для скольких мы этими крымскими посылами, думая помочь, жизнь сократили?
– Значит… и моя мать? – невольно вырвалось у меня, потому что она именно в Крыму окончательно захирела.
Остроумов взглянул на меня спокойными, полными большой мысли глазами, как теперь говорят, «сверхчеловека», и произнес угрюмо и твердо:
– Да, и твоя мать.
Со времени этого разговора Остроумов всегда представляется мне как бы Фаустом, которого толпа на празднике народном благодарит за помощь во время чумы, а он, в глубине души своей, терзается чуткою совестью и мнит себя не спасителем, но губителем народа.
Hier war die Arzenei – die Patienten starben,
Und niemand fragte, – wer genas?
So haben wir, mit hollischer Latwergen
In disen Thalern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben;
Sie werkten him, ich muss erleben,
Dass man die frechen Murder lobt.
Когда вышла в свет знаменитая книга Вересаева «Записки врача», дорого дал бы я за возможность поговорить о ней с Остроумовым!..
– Проклятая практика! – вырвалось у него однажды. – Если бы я мог вернуть свою молодость, я заперся бы в лабораторию. Я рожден для кафедры и кабинета. И только там счастлив.
Практические разочарования Фауста в приобретенном им знании бросили почтенного доктора в когти Мефистофеля. В наш век черти больше не покупают душ ни у докторов, ни у простых смертных. Но жестокий червяк самосомнения работает еще острее, чем прежде. И, чем честнее натура, чем богаче одарена она, тем разрушительнее его ядовитая работа. Не радостно человеку, глубоко, тонко и совершенно изучившему процесс смерти, сознавать свое коренное бессилие в борьбе с нею, видеть, что ценою всей науки своей он приобрел лишь одно печальное право: предупредить ближнего своего, что ты, мол, умираешь! – раньше и с большею уверенностью, чем то могут сделать другие… Практика отравила и съела Остроумова. Такому богатырю жить бы, да жить лет до 80, а он умер, вряд ли дожив и до 60, с совершенно разрушенным здоровьем. В лице его Россия потеряла, несомненно, большого человека: яркий талант, сильный, честный, редкостно стройный ум, крепкую и полезную волю.
notes
Примечания
1