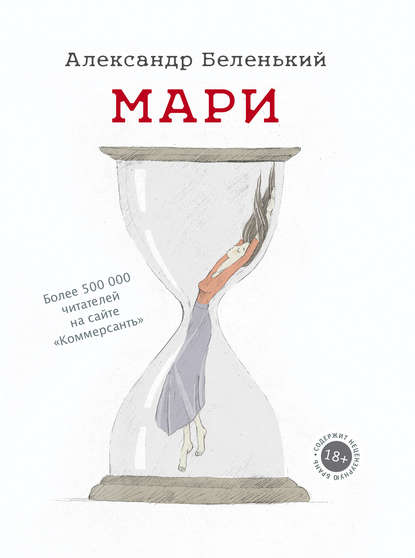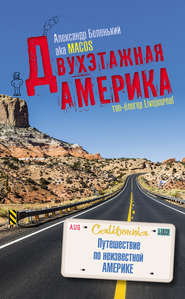По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мари
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мари остановилась. Я встал рядом, взял ее за руку и сказал:
– Подними ногу!
Мари меня не поняла, но подняла левую ногу вслед за мной, с веселым недоумением, поглядывая мне в лицо.
– А теперь прыгай!
Она опять не поняла, но с секундной задержкой прыгнула вслед за мной, а потом рассмеялась так, что упала бы, если бы я ее не поддержал. Мы запрыгали вместе и так, держа друг друга за руки, прыгнули вперед на одной ноге раз двадцать, а потом раз двадцать на другой. Весенний Париж располагает к таким вещам. Кто там был, и особенно кто не был, меня поймет, потому что мечта всегда больше реальности. Поэтому Париж, когда я попал в него впервые за пару лет до этого, меня разочаровал. Мне понадобилось съездить в него несколько раз, чтобы вернуть то ощущение земли счастливой и обетованной, которое он рождал у меня в детстве из своего невозможного далека.
Люди, смеясь, расступались перед нами. Закончилось все тем, что мы остановились, повернулись друг к другу, я обнял Мари, почувствовав сквозь мягкую ткань легкого пальто ее тело, которое под моими руками сначала напряглось, а потом расслабилось. И также изменилось выражение ее лица, ее глаз, и неловкость ушла. Стан у нее оказался еще тоньше, чем я думал, и мне почему-то стало ее невыносимо жалко. За что? Почему? Жалеть девушку за стройность нелепо, но со мной так было всегда. Я всегда особенно сильно влюблялся через жалость. Я находил, за что пожалеть любую красавицу.
Дальше мы пошли в обнимку, и я думал, что вот рядом со мной идет чужая жизнь, которая так неожиданно для меня самого, за час, за два часа, не знаю за сколько, но невозможно быстро стала моей собственной, и что еще утром этого всего не было и, казалось, не могло быть.
– Ты есть хочешь? – спросил я, пытаясь обрести какую-то твердую почву под ногами, а что может быть почвеннее еды?
– Да. С утра ничего не ела, – весело ответила Мари.
– Тогда пошли, – сказал я.
Мы как раз вышли на Площадь Вогезов.
– Тут очень дорого, – сказала Мари.
– Потянем как-нибудь, – сказал я и почти затащил ее за столик на улице.
Шустрый официант, увидевший, что девушка может меня увести, нарисовался тут же, выскочив, как чертик на пружинке из коробочки с кнопкой, уже с меню в руках и весь радостно готовый к услугам, но при этом без лишнего лакейства. В общем, такой правильный французский официант.
Я ему быстро сказал, что хочу стейк bleu, «синий». Это практически сырое мясо, лишь чуть обжаренное с обеих сторон. Официант, как это часто со мной бывало, спросил, знает ли месье, что он заказывает. Месье, как всегда, знал.
Почему-то французы не ждут такого заказа от иностранца. В любой кухне есть блюда, которые местные считают только своими собственными. Это не водка со щами и даже не фуагра. Это для внутреннего пользования своими, да и то очень немногими. Теми, кто может оценить. Ни в одном языке, который я хоть как-то знаю, нет такого однословного эквивалента этому французскому bleu в сочетании с мясом. Английское blue rare – это, во-первых, два слова, а во-вторых, явная калька с французского. Впрочем, тогда мне было совсем не до мяса и языковых тонкостей и изысков, хотя я был голоден, как черт.
Мари долго смотрела в меню и при этом шевелила губами, и я вдруг понял, что она собирается заплатить за себя сама и выбирает что-то подешевле. Я тогда по понятным причинам неплохо разбирался в одежде, особенно в ценах на нее, я глянул на ее пальто, как будто снова в одну секунду ощутив пальцами ее тело под ним. Этого этапа я миновать не мог при всем желании. Но почти тут же это ощущение ушло, и я в первый раз посмотрел не на Мари, а на то, что было на ней надето. Пальто было красивое и элегантное, но недорогое. У меня что-то защемило от этого, и тут же снова вернулось чувство, что я держу ее в своих руках, а между ней и мной – только это пальто, которого на самом деле и нет вовсе.
– Послушай, я вчера сделал хорошие деньги, – сказал я, имея в виду «победу» над Большой Стервой. Как же я, идиот, ошибался, я уже сделал необратимый шаг к своему краху и даже не мог себе представить, к какому глубокому, а думал, что победил, но какое это имело тогда значение? – Так что давай поедим по-настоящему.
Мари тогда, как-то смущенно улыбнувшись, от чего я тут же воспламенился, как промасленный фитиль от поднесенного огня, только огонь был во мне самом, я был фитилем самовоспламеняющимся, отложила меню и тоже заказала стейк, но rouge, «красный», то есть обычный, с кровью.
Не знаю, может быть, я пытаюсь быть слишком умным, но мне кажется, что женщины в компании с мужиками, которые им нравятся, часто заказывают то же, что и они, просто потому, что думают в этот момент не о еде. Я тогда так и понял это как очень хороший для меня признак.
Пока мы ждали наш заказ, Мари очень приметным жестом своей узкой красивой ладонью с длинными пальцами отмахнулась от дыма, который принесло от какого-то из соседних столов. Сама того не зная, она ответила на мой вопрос, который нешуточно мучил меня все время с момента нашей встречи.
Даже не знаю, с чего начать этот стриптиз.
Мужчиной я себя ощущал, сколько себя помню. В том смысле, что женщина вызывала у меня волнение, до поры до времени мне самому не очень понятное, во всем теле. Само ее присутствие, каждое движение, каждый ее взгляд, особенно, если он был направлен в мою сторону. А если нравившаяся мне женщина курила, это волнение переходило в нешуточную, хоть и чисто психологическую, боль. В ней было много возбуждения, но сама боль была больше и сильнее этой своей возбужденной части.
Все мои любови не курили, по крайней мере, пока были со мной. У большинства это было чуть ли не единственное их достоинство. Другие курили, но это были не любови.
Одна, безмерно проницательная девушка, из тех очень немногих, кто был хоть чуть-чуть старше меня, которая за пару месяцев нашего романа расшифровала меня целиком, разгадала и этот мой пунктик и как-то сказала, вызвав у меня некоторый шок: «Тебе нет до меня дела, раз тебе все равно, что я курю». И она была права, но я от этих ее слов почувствовал себя так, будто она заглянула в какой-то мой абсолютно тайный заповедный угол. Очень неприятное ощущение, надо сказать.
Как-то на первом курсе института мне до смерти понравилась одна девчонка, и я, улучив момент, залез ей в сумку, проверить, нет ли там сигарет. Мы в большой компании в студенческом театре, куда я только пришел, собирались провести полдня, и я все равно узнал бы это, но ждать не мог. Вот не мог. Мы еще были едва знакомы, и я рисковал, что меня заподозрят в том, что я полез в ее сумку за деньгами, а у нас в институте кто-то крепко подворовывал, но и это меня не остановило. Я оказался один в комнате, где мы побросали свои вещи, положился на хороший слух и общее обостренное чутье и залез в брошенную ей сумку. Сигареты там были. У меня все упало. Во всех смыслах.
С самого момента нашей встречи я все не знал, как спросить Мари о том, что меня так волновало. Я ловил ее дыхание. Оно было свежим и чистым, но это еще ни о чем не говорило. От одежды тоже ничем не пахло, что меня особенно успокаивало.
Когда она, уже сидя в ресторане, полезла в свою сумку, во мне все замерло, но она просто достала какую-то тетрадь, успокоилась, что она на месте, и сунула ее обратно. Некурящих француженок не так мало, как можно подумать, посмотрев их фильмы, и шансы на то, что Мари не курит, росли с каждой минутой. И вот я получил ответ.
У меня потемнело в глазах, и я опять побоялся, что меня сейчас прорвет. Но, к счастью, не прорвало. Впрочем, это как сказать. Я, не очень соображая, что делаю, потянулся к Мари, взял ее за руку и чуть-чуть сжал, а потом поднес к губам, вызвав ее изумленный и радостный взгляд. В первый раз я тогда коснулся ее губами. И коснулся не губ, а руки. Я хотел что-то сказать, уже рот открыл, но у меня совсем дыхание сперло, и я только издал какой-то длинный мычащий звук.
Это было так неожиданно для меня самого и так смешно, что… нет, мы не залились смехом, мы залили своим смехом все вокруг. Люди, которые сидели рядом, засмеялись, по-моему, даже не очень понимая, над чем они смеются, а одна женщина моих тогдашних лет, которая, по-моему, как раз все расслышала и поняла, сделала какой-то жест, очень французский и предназначенный для меня.
Совершенно не помню, какой именно, но я его расшифровал как одобрение моего выбора и моей страсти, вылившейся в это мычание. Мари это тоже заметила и, в отличие от меня, наверное, поняла его полнее, покраснела и еще раз рассмеялась, теперь уже как-то совсем смущенно. Бог ты мой, мы были знакомы час, может, чуть больше, а она уже стала частью моей жизни. Ах, да. Я уже об этом говорил. Но я все время открывал это для себя заново.
Потом мы впились каждый в свой кусок мяса. Она с сомнением посмотрела на мой и спросила: «Как ты это ешь? Он же СОВСЕМ сырой». «А ты попробуй, вкусно», – сказал я и протянул ей кусок мяса на своей вилке, которая в тот же момент, пока шла от меня к Мари, стала продолжением моей руки. Я чувствовал эту вилку как свои пальцы и ждал, когда она обхватит губами эту вилку, эти самые мои удлинившиеся пальцы, и зубами стащит розовый от крови кусок мяса, несколько капель с которого упали на стол, как первые капли дождя, предвещающие ливень и грозу.
Так все и вышло. Наверное, в этот момент и решилась судьба того дня, той ночи и той жизни заодно. Мари опять каким-то кошачьим движением обхватила губами мои железные, но очень чувствительные пальцы и зубами медленно стащила с них кусок мяса, и замерла, как будто запоздало подумала, что этого, наверное, не стоило делать. Я смотрел на ее губы, на капельку крови на них, подождал, пока она ее слижет, и в тот же момент случайно коснулся под столом ее ноги, и меня опять чуть не скрутило от спазма в паху.
Если бы я писал о себе в третьем лице, я бы, наверное, придумал, какое у меня было выражение лица в тот момент, но я не знаю, какое оно у меня было. Я увидел только его отражение на лице Мари, в ее взгляде. Это было что-то вроде радостного испуга.
Наверное, я многовато говорю о себе и маловато о ней, но я просто не знаю, что думала Мари. Я даже не всегда был уверен в том, что именно она сказала, потому что она то и дело переходила на французский, что я понял как знак, что все больше становлюсь ей не чужим, и я больше догадывался, что она говорит, чем понимал, и мне это нравилось. Нравилось додумывать сказанное.
Ну, а этот взгляд был знаком мне с детства, лет с пяти. Нет, я не предавался разврату в детском саду. Я млел, когда ко мне близко подходила девочка по имени Ира, а еще больше, когда подходила Оля, и уж совсем растекался по полу, когда подходила Кира, моя первая большая любовь. Ее вскоре забрали из нашего детского сада, и это стало первой драмой в моей личной жизни.
Я ходил по комнате неприкаянный и ни с кем не общался. Воспитательницу это даже напугало, она что-то сказала маме, та спросила, что со мной, но я, конечно, не сказал. Точнее, сказал какую-то ерунду, которую говорят дети, когда хотят что-то скрыть. Моя умная и добрая мама посмотрела на меня и, по-моему, все поняла, потому что позже, когда я так себя вел, неизменно говорила: «Влюблен ты опять, что ли?» – и всегда попадала в точку, но тогда она, слава Богу, ничего не сказала. Видимо, поняла в свои невероятно зрелые, как мне тогда казалось, двадцать девять лет, что я еще не готов к тому, чтобы меня так раскрывали.
Так в пять лет я узнал, что такое любовная тоска, и с тех пор это чувство никогда не было для меня новым.
Но этот взгляд я впервые увидел не в детском саду, а в Парке культуры, примерно тогда же или, может быть, на год позже. Там был аттракцион, на который мне ход был заказан. Да я бы и сам на него тогда не пошел ни за какие коврижки. Туда не пускали детей моложе двенадцати или чего-то в этом роде. А тех, кого пускали, сажали во что-то вроде лодки, привязывали брезентовыми, на самом деле, наверное, кожаными, но покрытыми брезентом и казавшимися очень ненадежными и как будто созданными как раз для того, чтобы лопнуть в самый неподходящий момент, ремнями, лодка раскачивалась, как качели, а потом взмывала в воздух и совершала переворот на 360 градусов и крутилась так какое-то время.
В очереди на этот полет вверх тормашками стояло несколько десятков девчонок и мальчишек, которые все наперебой рассказывали друг другу, как они не боятся, и даже мне, пятилетнему, было ясно, что они врут.
Я перевел взгляд с героев, которым еще только предстояло испытание, на тех, кого уже испытывали. На переднем сиденье «лодки» сидела очень красивая девочка, показавшаяся мне почти взрослой. Конечно, она же была раза в два старше меня. И вот, когда лодка стала совершать полный оборот, на ее очень бледном лице появилось такое же выражение, какое сейчас я увидел у Мари, и которое наполнило меня немыслимой гордостью. Если такая красивая девушка смотрит на тебя так, как будто ты перевернул ее вверх ногами, доставив ей такое испуганное счастье, значит, ты не зря пришел в этот прекрасный мир. По крайней мере ты его не испортил, а наоборот, украсил, не собой, конечно, что ты можешь собой украсить, а вот этим ее взглядом.
Выйдя из ресторана, мы сделали пару кругов по Площади Вогезов, на которой я помешался давно и сразу, а потом еще долго ходили по Маре. Я тогда не знал названия ни одного из особняков там, а Мари знала и показывала мне те, которые ей самой нравились больше всех, но зато я мог сказать, когда любой из них был построен, что ее безмерно удивило, и она спросила, все ли мы такие образованные в России.
Мы давно шли в обнимку, и я все время пальцами чувствовал ее тело сквозь пальто и чувствовал на себе ее руку. Эти перекрещенные за нашими спинами руки стали проводниками между нами, через которые проходил ток. А сверху, уже с помощью беспроволочного телеграфа, мы делали то же самое глазами. Мы смотрели не на, а в. Мы входили друг в друга своими взглядами. Я чувствовал, как во мне разбредается взгляд Мари, и чувствовал, как мой расходится по всему ее лицу и телу. И так было все время. Даже во время умных разговоров об архитектуре Маре. И конечно, я давно знал, чем этот вечер закончится, но понятия не имел, где и как.
А еще вокруг был Париж, без которого, как я тогда думал, я больше никогда не смогу жить.
Вообще, Париж без женщины и Париж с женщиной – это два разных города. Звучит пошло, но это совсем не пошлая правда. Да-да, наверное, это можно сказать о любом городе, но Париж в этом плане – особенный. Впрочем, как и во многих других.
В одном из закрытых дворов мы каким-то чудом оказались одни. Я, неожиданно для самого себя, даже не обнял Мари, а сгреб в охапку, как хотел сделать, едва увидев ее, прижал к себе и стал гладить по волосам. В первую секунду она слегка отпрянула от меня, почувствовав мой взвинченный нижний этаж, но потом посмотрела на меня, как пойманная птичка. «Ты красивый», – сказала Мари. Она сказала не handsome, а beautiful, но я в тот день был не склонен исправлять грамматические ошибки. У меня снова заломило в паху. На этот раз так, что я застонал. «Тихо ты», – сказала Мари по-французски, как-то испуганно засмеявшись, и я почувствовал, что мы уже во дворе не одни.
Я оглянулся, но увидел только размытые повернутые к нам лица. Насколько я мог разобрать, вполне нас одобрявшие. Я ведь был без очков. И сквозь густой туман в голове, легкий – перед глазами и боль в паху я подумал, что здорово, что я снял очки. Обороты, которые мне сегодня предстояли, были явно не для очкариков.
Дальше какой-то кусок просто выпадает у меня из памяти. Я помню только первые признаки сумерек, зажегшиеся фонари и почему-то как будто сквозь их свет ее тело под пальто, как его ощущали мои пальцы. И опять этот взгляд пойманной птички. Я потом долго думал о том, что он означал. Не знаю. Может, кто подскажет.
Вообще в тот вечер я был галантен, как никогда. За все время я ни разу даже не попытался коснуться груди Мари, и рука моя не съезжала с ее талии на бедра. Я боялся что-то сломать, что-то разбить. Что-то такое, чего у меня никогда не было, и я просто не знал, как с этим хрупким сокровищем обращаться. Опыта не хватало. Опыт был совершенно другой, и он ровным счетом ничем мне здесь не помогал.
Мы свернули в очередной переулок. Даже не знаю, мы тогда уже вышли из Маре или были где-то на его окраине. Я повернулся к Мари. Весь вечер она шла справа от меня, а сейчас почему-то слева. Господи, вот почему в память врезается такая ерунда? Какая разница, с какой стороны она шла, справа или слева? Я повернулся к ней. Уже чуть-чуть стемнело. Я любовался ее лицом, обрамленным этими великолепными волосами, и ощутил невыносимое желание влезть в нее не частью себя, а всем собой. Мы были знакомы несколько часов, а я был влюблен уже даже не по уши. Я давно провалился в этот омут вместе с ушами. Я был влюблен в парижскую девочку лет на десять, а то и больше, моложе меня, которую едва знал, и которая не понимала половину того, что я говорил, и которую я сам понимал не лучше, и постоянно домысливал, что она мне сказала.
Другие электронные книги автора Александр Беленький
Двухэтажная Америка




 3.67
3.67