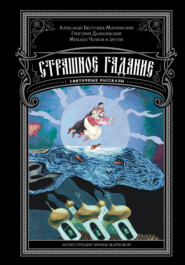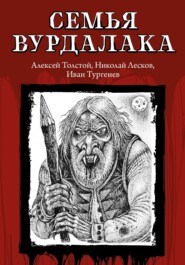По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Аммалат-бек
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полковник приложился; пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровью, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, нажидая его ближе; в другой раз брякнул курок… осечка! Отсыревший порох не вспыхнул. Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева; только один сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, рассвирепелый кабан ударил в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей… Напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника… С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, и голос его умирал в пустой окружности напрасно…
Нет, не напрасно!
Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как исступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его на землю.
Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.
– Я не принимаю незаслуженной благодарности! – отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. – Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу; я было совсем потерял его, и вот бог привел меня достичь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву – вас, моего благодетеля.
– Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикушать запрещенного мясца, Аммалат?
– И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.
Облава обратилась в другую сторону: вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»
– В нем разразилась месть моя, – возразил тот, – а месть азиатца тяжка!
– Ты видел, ты испытал, Аммалат, – сказал ласково полковник, – как мстят за зло русские, то есть христиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе!
И оба поскакали к цепи.
Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны… Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец, Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо: к нему навстречу несся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями алейкюм селам, оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.
– Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею?! – вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. – По лицу вижу, что ты привез добрые вести и вот тебе моя новая чуха за это[48 - У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду. (Примеч. автора.)]. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?
– Дай образумиться, – возразил Сафир-Али. – Дай хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан…
– Черт их побери одним разом!.. Что же Селтанета?
– Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я насказал ей верблюжий вьюк от тебя приветствий, уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга… а она так и заливается слезами!
– Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?
– Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зимний снег выпал на ее сердце и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его… Впрочем, если б мне дождаться конца ее наказов, а тебе – моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!
– Бесценная девушка!.. Не знаешь ты, да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя.
– То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»
– Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!
– Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет – так кровь заиграет.
– Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?
– Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.
– Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь – не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде – для них конец любви!
– Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). Надежда у влюбленных – бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь – так и чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.
– Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует нетление и не может избежать его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко!
– Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского! Волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтаиета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?
– Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба – прекрасное дело, но она не заменит любви.
– По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?
– Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви своей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностию вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которою вырос, и, верно бы, женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами[49 - ..во время войны с фиренгами… – то есть с французами.]. Невеста его поплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину и находит свою милую женою другого. Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае? Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища… увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею… или хоть в мести насладиться за отнятое счастие! Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!
– Редкий человек, если это не сказка, – молвил Сафир-Али с чувством, бросив повода, – твердый друг!
– Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастию ли, к несчастию ли его, умер его приятель-соперник[50 - …умер его приятель-соперник. – В 1820 г. полковник Пузыревский был назначен Ермоловым правителем Имеретии, но вскоре он был убит во время карательной экспедиции.]. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своею добротою, попять страсть мою!.. Притом, между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.
– Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности.
– Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!
– Не помногу же достанется на брата, – сказал Сафир-Али.
– Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир! – возразил, улыбаясь, Аммалат.
– Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала и потом ничего не видеть, кроме покрывал и бровей. Видно, тебе, как урмийскому соловью[51 - Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью – винограда. (Примеч. автора.)], надобна для песен клетка.
Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.
Глава VII
Отрывок из письма полковника Верховского к его невесте
Дербент, апрель.
Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнию и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задернулась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, а звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой… Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями, – и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?., где сам я?..
Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви; она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!.. Не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостоять призывному мерцанию месячного луча… отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом, в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами… Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно… для чего ж разлучены доселе?..
Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Адербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, – вот азиатское управление, честолюбие и нравствепность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарив огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властию, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтоб словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения: трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии… Et c'est tout dire[52 - И этим все сказано (фр.)]. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын – раб своего отца, брат – его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца: мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы – суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю… Он должен даже плакать тайно от других.
Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.
Вчерась я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена[53 - ..видна уже стена. – К западу от Дербента видны развалины стен и башни, сооружение которых приписывалось Александру Македонскому, завоевавшему Персию в IV в. до н. э.], защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме[54 - Дербент-наме – сочинение по истории Дербента, переведенное на русский язык по приказанию Петра I.]) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван[55 - Царь Нуширван Справедливый происходил из династии Сасанидов, царствовал с 530 по 578 г. Ему приписывается окончательная постройка крепости Дербента, основанного в конце V или начале VI в.] отрыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря. (Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дал-юл – узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний[56 - Плиний Старший Гай Секунд (23—79) – римский ученый и писатель, автор энциклопедического сочинения «Естественная история» (в 37 кн.).] описывает Дарьял очень подробно. Прокоп[57 - Прокопий Кесарийский (между 490 и 507 – после 562 гг.) – крупнейший византийский историк, участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Основываясь на личных впечатлениях, написал сочинение «История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» (в 8 кн., 553 г.).] называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в Абазинскую землю за Железные ворота, следственно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!! (Примеч. автора.)), пересекая весь Кавказ, имея крайними железными воротами Дербент[58 - …имея.. железными воротами Дербент… – Слово «Дербент» – персидское (дер – дверь, бенд – преграда, застава); у арабов Дербент назывался «главные» или «железные» «ворота».], а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до Военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.
Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслию, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро[59 - Меридово озеро – знаменитое озеро в Древнем Египте, соединенное с Нилом; уровень воды в озере регулировался с помощью шлюзов.], пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, – свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю останки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы… Я бродил по следам великого Петра[60 - Я бродил по следам великого Петра… – Речь идет о персидском походе Петра I в 1722 г., целью которого было расширение торговых связей между Россией и Востоком. В результате втих походов ряд районов Дагестана и Азербайджана был присоединен к России. В 1735 г. завоеванные районы были возвращены Персии.], я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездились в уме, какие святые чувства вздымали геройскую грудь! Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целью. Дербент, Бака, Астрабат – вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп[61 - Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась, как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершил виноделие; теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!!! (Примеч. автора.)]. Задумчив и безмолвен ехал я далее.
Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след разва – лин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону, сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев[62 - Табасаранцы – народность Дагестана, относящаяся к лезгинской группе.]. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и каменьям; драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев, в чем дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли». Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле; он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.
– Прошу долой с коней, милые гости, – произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.