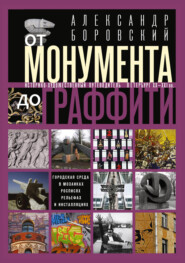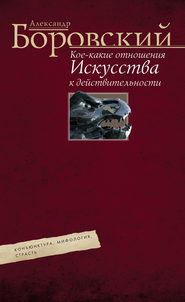По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разговоры об искусстве. (Не отнять)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Само собой. Но там появились первые русские не подцензурные литографские мастерские. В России боялись, что там начнут литографировать почем зря антиправительственные прокламации – дешево и сердито. Оказалось, русские стали печатать там порнографические стихи и рассказы. Я даже вспомнил один такой стишок, вроде бы М. Лонгвинова:
Пишу стихи я не для дам,
Все больше о п… и х…
Я их в цензуру не отдам,
А напечатаю в Карлсруэ.
Вайбелю очень понравилось. Я даже испугался, что он сделает их слоганом ZKM. Потом вспомнил, что он уже давно не телесный, а медийный. Но к чему я веду? Году в 2001-м мы делали в Русском выставку замечательного художника Юргена Клауке. Концептуалист, великий трансформатор фото-медии в станковое и наоборот. Тоже коренной шестидесятник – телесник, затем, помножив телесное на лингвистическое, стал классиком минимализма и концепта. Я без иронии говорю, потому что кроме концепта там всегда присутствует совершенная визуальная реализация. Чего и другим желаю. Естественно, Клауке повязан с ZKM служебно и лично: выставляется «от» этой институции, дружит с Вайбелем. Разумеется, ZKM привлекает и главных философов времени: Жижека, Гройса, Слотердайка. Такое вот сочетание: художники ZKM работали (кто когда) телом и с телом, а философы, естественно, головой. После вернисажа разговорился я откровенно с умницей Клауке. На свободные темы. В частности, как живется критике. Я хотел рассказать, как у нас живется: плохо, методологии не отстроены, язык описания хромает. Говорю, мол, у вас такие философы в одной упряжке, с ними-то проблем нет. Но Клауке все-таки изначально телесник, нет у него святого предтерминологического трепета (то есть трепета перед терминами, перед господствовавшим тогда квази-философическим дискурсом). Он говорит:
– Не так все просто. Заказал я как-то статью коллеге.
Кому из трех философов, не упомню, поэтому дам обобщенный образ – Жижгрослот.
– И как?
– Да тот просто нахально скачал куски каких-то своих текстов. И один раз вставил мою фамилию – Клауке. И счет выдал.
– И ты? Скандал устроил? Отказал?
– Да нет. Попросил четыре раза проставить в текст Клауке. – И захохотал, как Вайбель над стихами про Карлсруэ. Тоже не дурак.
Где наше ни пропадало
Это не ошибка. И не филологическая каверза. Просто правда жизни. Просто напишу несколько заметочек о том, что с возу упало по моей собственной дурости.
Выставка Класа Олденбурга в Гугенхайме. Что говорить… Если меня пронимало современное искусство, то на таких выставках. А их было на моей памяти с десяток. Художник – в кресле, стар. Меня подводит к нему его брат, Ричард (Дик) Олденбург, бывший директор МОМа.
– Слышал, слышал, – вежливо говорит старик и показывает на огромный каталог. – Возьмите. – Я, как честный дурак, уставший перевозить тяжеленные каталоги, стал что-то бормотать. Типа премного благодарен, но может, музей перешлет мне, а то так не подъемно…
– Честный мальчик, – сказал Олденбург. – Люблю откровенность. Действительно, тяжелый, не для самолета. Жаль, хотел вам нарисовать что-нибудь…
Я похолодел. Но что делать. Не говорить же: дяденька, обмишурился я, нарисуйте хоть что-нибудь. Так и ушел. Откровенный! Таких откровенных поискать…
Биограф
Как-то сел у Гугенхайма в автобус, проехать по музейной миле вдоль Сентрал Парка. В автобусе почти пусто – день. Напротив сел цветущего вида джентльмен, к семидесяти. И вдруг, совершенно неожиданно для меня – никогда ранее в автобусах иначе как «вы выходите?» ко мне никто не обращался, этот джентльмен спрашивает: «Are you from art world?» Или еще проще: «From arts?» Что-то типа – вы из искусства? Может, пакеты мои разглядел с каталогами? Словом, идентифицировал. Польстил, короче говоря. Расположил к себе. Разговорились. Джентльмен оказался Джэкобом Баал-Тешувой. Знакомство продолжилось, и я не раз бывал в его квартирке на Манхэттене, рассматривал картины его жены Авивы и даже сделал ее выставку. Джэкоб был автором многих популярных книг по искусству и биографом М. Шагала. Молодым израильским журналистом (кажется, Израиль даже еще не был провозглашен как государство) он приехал в Париж и перезнакомился со всеми великими стариками: Шагалом, Пикассо, Леже и др. С Шагалом сдружился навсегда. Он рассказывал массу баек о Марке Захаровиче, которые не могли войти в официальную биографию. Одной поделюсь. Может, и апокриф. Итак, рассказ Баал-Тешувы.
– Марк, как вы знаете, был любезным человеком – обо всех своих знакомых отзывался восторженно, мог, причем в письменном виде, признать гения в любом, скажем, стихотворце или музыканте. Не скупился. Только о художниках отзываться не любил. Как-то мы с Авивой по его приглашению поехали к ним на ужин в Сен-Поль-де-Ванс. А днем зашли в Ницце на большую выставку Миро. И вдруг видим: по залам ходит Марк в странном виде – чуть ли не с накладным носом и в парике. Словом, маскируется. Мы поклонились, он сделал вид, что не узнал. Что делать. Причуды мастера. Вечером появляемся на вилле. Звоним в дверь. А там был у нас ритуал: «Здравствуйте, мэтр». – «Да какой я вам метр, так, миллиметр». Сходились обычно на сантиметре. За обычным разговором спрашиваю:
– Как вам Миро?
– Какой Миро? Я на выставке так и не был.
Промолчали – чудит старик… Поезд. Утром входим в квартиру. Звонок. Снимаю трубку – Марк. Давно звонит, накипело.
– Знаете, а все-таки ваш Миро – дерьмо!
Может, и апокриф.
Голышки в Мраморном
Много лет я работаю в Мраморном дворце. Помню, как во дворе мы водрузили на постамент ленинского броневика «Мраморный Форд» немецкого акциониста Ха Шульта. Кстати сказать, теперь броневик мне жаль – это был отличный образчик техно-реди-мейда. Прямо, как Дюшан прописал для наших планов превратить Мраморный в арсенал современного искусства. В музее Ленина вообще много было авангардного. Например, в витрине – пальто вождя, простреленное Фаней Каплан и заштопанное Надеждой Константиновной. (Таких уникальных пальто во всех музеях Ленина по России было штук десять.) Но концептуальным было другое. Пальто было одного размера, на человека небольшого роста. А рядом стояли как бы ленинские болотные сапоги. Для охоты. Причем другого, огромного размера. На какого-нибудь матроса Железняка. На худой конец, Дзержинского. Я, когда музей еще существовал, успел сделать слайды. И показывал на лекциях: вот – Кабаков, инсталляция «Рука и репродукция с Рейсдаля». А это – музей Ленина. Инсталляция с пальто и сапогами. Доходило. Но история не об этом. Это отцовская история. В пятидесятые на задах Мраморного, где-то на третьем этаже несколько молодых художников, отец в их числе, сняли мастерскую. Был у них дружок, кажется, замдиректора, он им это и устроил. Сняли для халтур – панно на ленинские темы, вполне в русле музейной специфики. Дело молодое, писали заодно обнаженных натурщиц. И как-то в здании напротив, в Ленэнерго (бывшие казармы Павловского полка), точнее, в его крыле, которое выходит на Миллионную, собирался какой-то районный партийный актив. Может, не районный, а местный, электрический, не важно. И видят делегаты: аккурат напротив их собрания, в окнах Мраморного, то бишь Музея В. И. Ленина, творится черт знает что. Провокация. Голые бабы. Звонок. Через десять минут этот самый зам, который не раз приходил в мастерскую с целью выпить (коррупция была минимальной и измерялась халявной бутылкой, правда, регулярной), чему не мешали никакие холсты с натурщицами, был уже там. Обычно ему не мешали не только холсты с натурщицами, но и сама живая натура. Теперь он пребывал в паническом настроении.
– Мужики, не губите. Прячьте голышек, комиссия на хвосте! Вот-вот нагрянут! Боже мой, голые бабы в музее Ленина! Пропал я, пропал!
Что делать? Выносить холсты по одному – не успеют. Прятать – найдут. Решили связать подрамники и спустить обнаженку вниз. Сказано-сделано. Часть художников сбежала вниз принимать холсты. Успели даже грузовик подогнать, люди были хваткие, войну прошли. Зам встречал комиссию. Партийцы тоже не лыком шиты: въедливые, поднаторевшие в разоблачениях враждебного элемента, – их за эту опытность там же на активе в комиссию и избрали, по горячим следам. Но след взять не удалось, ничего не нашли. Ложная тревога. А зам кипятился: «Как вы могли подумать, что в таком священном месте… Вот вам Ленин, вот вам Дзержинский. Обидно, товарищи». Но и электрические коммунисты, оставшиеся в зале заседаний, тоже не дураки. Они углядели, что обнаженку вниз спускают. И тут же оперативно настучали. Это был уже второй сорт разоблачителей. Подслеповатый. Говорят, голых баб на веревках эвакуируют. Это уж как-то совсем вызывающе. Не реалистично. Их подвела, конечно, не только слабость зрения, но и общая расстановка сил. Самые заядлые активисты как раз проверяли в этот текущий момент мастерские. Самые внушающие доверие. А эти, подслеповатые, были так себе, шелупонь рядовая. Доверенные даже возмутились: если уж мы ничего не накопали, то не вам встревать. Выдавать желаемое за действительное. Голышки им всюду мерещатся. Товарищи-художники работают над ленинской темой. Вызов, стало быть, ложный. И точка. Такой вот рассказ. Вполне contemporary. Про акционистскую артикуляцию телесного во враждебном социуме. Правильная история для Мраморного дворца.
Профессор Каганович
Профессор Каганович был обаятельнейшим человеком – шармер, душа любой компании. Мои родители смолоду приятельствовали с ним, в семейном обиходе он был Абрамом, без отчества. С ним связывались истории и анекдоты житейского плана, которые, пока я был маленьким, рассказывались приглушенным голосом. Для студенток нескольких поколений он был живой и желанной легендой. Недавно я перечитал его работы – конечно, как искусствовед, по отпущенным ему возможностям, он мог сделать гораздо больше. Видимо, он с молодости, пришедшейся на «борьбу с космополитизмом», вынужден был постоянно доказывать свою лояльность. Академическая жизнь, в конце 1940-х идеологизированная донельзя, и впоследствии держала его мертвой хваткой. Карьера подразумевала большие обременения. Думаю, его личностная яркость была своего рода компенсацией профессиональных ограничений, которые он прекрасно осознавал. Коль скоро приходилось отмалчиваться или произносить ритуальные речи в публичной жизни, в частной Абрам Львович давал себе волю. Его бонмо расходились от преподавательских застолий до студенческих. Впрочем, в последние годы (собственно, тогда я и слушал его лекции) они были окрашены грустной интонацией.
– Раньше студентки мне говорили: «Абрам Львович, возьмите меня». Теперь: «Абрам Львович, возьмите меня в аспирантуру».
Поезд
Как-то само собой оказалось: очутился на летном поле в Пулково в группе из десятка сравнительно молодых людей. Кое-кого я знал понаслышке (композитор С. Баневич и пианист П. Егоров), кто-то учился со мной в Репинском (Сергей Кирпичев и Олег Яхнин, графики, и Алик Асадулин, певец, но тоже наш, учился на архитектурном). Далее тек ручеек совсем одинаковых учениц старших классов Вагановского. И совсем отдельно шествовал с большим иностранным баулом юноша в черном с густой черной же шевелюрой.
– Держись от него подальше, – шепнул бдительный Кирпичев. – Какой-то он не наш.
Действительно, вид у него был театрально-зловещий. Как мы там все оказались?
Была такая практика в позднесоветские времена: творческие союзы посылали лучших своих представителей в отдаленные трудовые коллективы. Лучших? Все понимали, что это сомнительно. Например, был случай с одним поэтом, тишайшим человеком, собирателем матерных частушек. Он после поездки, о которой пойдет речь, подарил нам всем по книжке своей лирики. Под названием «Однолюб». Когда я, вернувшись, рассказал об этом в доме поэтов Нонны Сле-паковой и Льва Мочалова, Лев Всеволодович, мой старший друг и сослуживец по Русскому музею, посмотрел на меня странно.
– Не может быть, чтобы тот самый, – он внимательно изучил обложку. – Нет, тот. Помню его дело. В Союзе писателей обсуждалось. Дело не политическое, уголовное: ничем помочь не смогли. Получил срок за изнасилование. Групповое. После всего этого он вроде как квартиры лишился, поэтому и ездит по всяким творческим командировкам. Жить-то негде. Не берусь судить, в чем там было дело. – Лев Всеволодович человек исключительной щепетильности в вопросах человеческих отношений. – Но согласитесь, странно после всей этой истории назвать книгу своих стихов «Однолюб».
Не спорю. Так что насчет лучших своих представителей перебарщивали. Вот и мы, посланцы Союза художников, ничем таким особо позитивным не отличались. Хотя, конечно, и не «однолюбы». Дома надоело, и согласились поехать на БАМ. Да. Тот самый. «Строить путь железный, а короче – БАМ». Конечно, не строить. Встречаться с тамошними работягами. Черпать у них творческие силы. И отдавать им, вестимо, наши. Летим до Иркутска. Поздний вечер. Ресторан в аэропорту закрыт.
– Ребята, – это мы к официантам, – нам бы перекусить…
– А пошли вы… Не видите – закрыто. – Зло так ответили, бескомпромиссно. Сопровождающий стал совать официантам свою красную книжечку, они совсем уж озверело послали его. Надо сказать, время – чуть перевалило за середину семидесятых – почему-то запомнилось таким, что любое начальство нижестоящие люди (если не было прямой зависимости или угрозы) ненавидели от души. А в Иркутске, как оказалось, этого даже и не скрывали. Облом. Особенно неудобно было перед балетными девушками. Зачем их повезли на БАМ – неизвестно, тем более, к нашему общему сожалению, они были под плотным надзором своих воспитателей. И в дальнейшем носу из вагона не казали. Об этом позднее. А тогда мы, в надежде совершить на глазах этих балетных чудо, совершенно бесполезно совались к отдельно стоявшим официантам с баснословными, по нашим меркам, денежными предложениями. Официанты смотрели презрительно. Нам, каким-никаким, а мастерам культуры, было обидно. Тут вперед выступил черный человек. Тот самый, которого советовал остерегаться осторожный Кирпичев. Черный человек, присмотревшись к подносу с пустыми бокалами, что-то там переставил и быстрым движением запустил бокалы высоко вверх.
«А вот теперь п-ц», синхронно подумали мы. Официанты ощерились. Но тут черный человек невыносимо элегантным движением подхватил падающие бокалы на поднос. Они встали, не дрогнув, как влитые. Смельчак учтиво представился: престидижитатор, лауреат Токийского циркового (кажется, так) фестиваля Лазарь Лаузенберг (за точность имени-фамилии не ручаюсь) … Эффект был поразительный. Официанты стали метать на стол тарелки с закусками.
– Фокусник, говоришь, – подошел старый метр. – Я еще Вольфа Мессинга знавал, выступал у нас в Иркутске. Кормил его в тогдашнем «Центральном». Тогда самый лучший был. Сейчас таких и нет. Водочки, водочки неси, – между делом наставлял он молодого официанта.
Мы поняли: с таким престидижитатором не пропадем. Лазарь показал еще несколько фокусов, менее рисковых, походя забрал у молодняка бумажники с чаевыми так, что они и не шелохнулись, отдал, снял пару-тройку наручных часов и снова отдал. Словом, ночь прошла в полном братании. Наутро вокзал. В скромном депутатском зале установочная беседа с каким-то матерым цековским комсомольцем. Оказывается, цель нашей поездки – не только взаимоподпитка энергией с рабочим классом. Мы – работники идеологического фронта.
– Во враждебном западном мире ширится контрагитационная кампания по дискредитации нашего БАМа. И всего, что с ним связано. Вы должны ответить на это своей… – Тут он задумался… – Контр-контрагитационной работой. Попросту говоря, показать людям доброй воли реальные достижения строителей БАМа. (Это – после, дома, причем всем нашим творчеством и жизненной позицией.) Ну а пока строителям – теплоту душ советских людей, которые душой – с ними…
Складно говорил начальник. Тогда все эти спичи – от речей Генерального секретаря и до пассажей лектора из захудалого райкома – воспринимались чисто ритуально. Никому бы в голову не пришло выстраивать какую-то причинно-следственную связь между озвученным и реальной жизнью. («Озвучить» – нынешнее выражение, в брежневские времена за него бы не поздоровилось: «как это озвучено – генсек, да пусть и любой секретарь захудалого райкома, по-вашему, уже и губами не шевелят? Повашему, сам – взгляд кверху – уже и говорить не может?!») Так что мы выслушали комсомольского чина с полным ритуальным спокойствием. Никаких вопросов. Он оценил нашу реакцию и в конце даже сказал что-то человеческое, сочувственное. А именно:
– Ребята, вам не сказали, но по всему БАМу – сухой закон. Я уж не знаю, как вы там. Словом, сами справляйтесь.
Расселились по купе. Мне достались Яхнин, Кирпич и Престидижитатор. Лазарь оказался очаровательным человеком с уже немалым опытом жизни. Дар у него был семейный. Он не смог его скрыть даже во время службы в армии: Лазарь научил весь взвод кидать ушанки вверх на предельную высоту и ловить их головой. Аккурат к приезду генерала. Тот после подобного приветствия решил, что допился до белой горячки, и слег. А Лазаря после отсидки на губе запустили по военно-артистической линии, в какой-то ансамбль. На гражданке отец, тоже цирковой, заставил его учиться токарному делу, чтобы самому делать себе реквизит. Он жонглировал, показывал фокусы, строил сложные инсталляции, словом, был на все руки. Много выступал, даже в Японии. В пути Лазарь постоянно тренировался. Накидывал шапку на самый отдаленный гвоздь. По утрам у всех снимал часы в условиях нашего полного контроля – снимал и все тут, разминался. Подолгу меланхолически стоял на голове. Оживлялся он только на недолгих стоянках. Нужно было доставать спиртное, несмотря на все запреты. Это делалось так (увы, наш опыт уже никому не пригодится. Хотя как знать). На каждой станции был лабаз, в нем монументальная, все повидавшая тетка с химзавивкой. Фернандо Ботеро такие и не снились. У нас все было рассчитано по Станиславскому. Первым подходил я как типичный очкастый ботаник ненавистного интеллигентского вида (я, конечно, подыгрывал, после службы в Декоративно-прикладном комбинате, которую я где-то описывал, все же накопил кое-какой опыт выживания). Дрожащим голосам невыносимо вежливыми оборотами осведомлялся, нельзя ли в обход сухого закона достать пару бутылок – у меня, дескать, день рождения. Мне презрительно – как и предполагалось – указывали на дверь.
– Ходят здесь всякие…
Я был для разогрева. Следом шел более классово внятный человек – тот самый, который «Однолюб» (подробностей его жизни мы, конечно, не знали). Он читал продавщице (имя-отчество узнавалось заранее у аборигенов) вирши, довольно шустро зарифмованные, про все ее душевно-телесные красоты. Сердце ее оттаивало, но не настолько, чтобы лезть под прилавок. Но такая мысль уже зарождалась в ее голове. Затем появлялся инфернальный Лазарь Лаузенберг. Мы – это было его заранее оговоренное требование – удалялись. Никто из нас так и не узнал, что делал Лазарь с продавщицами. Показывал фокусы, вынимал из укромных мест – ушей, например, – конфетки, просто угадывал, где спрятано спиртное, – но без пары бутылок он не возвращался. Мы любили потом из окон смотреть, как к лабазу двигались комсомольские вожаки. Они не спешили – без них поезд не отойдет. Они были уверены, что для них-то отложено. Им даже корочки свои красные не надо было предъявлять.
– Ваши уже отоварились, – злорадно сообщали вожакам продавщицы.
Пишу стихи я не для дам,
Все больше о п… и х…
Я их в цензуру не отдам,
А напечатаю в Карлсруэ.
Вайбелю очень понравилось. Я даже испугался, что он сделает их слоганом ZKM. Потом вспомнил, что он уже давно не телесный, а медийный. Но к чему я веду? Году в 2001-м мы делали в Русском выставку замечательного художника Юргена Клауке. Концептуалист, великий трансформатор фото-медии в станковое и наоборот. Тоже коренной шестидесятник – телесник, затем, помножив телесное на лингвистическое, стал классиком минимализма и концепта. Я без иронии говорю, потому что кроме концепта там всегда присутствует совершенная визуальная реализация. Чего и другим желаю. Естественно, Клауке повязан с ZKM служебно и лично: выставляется «от» этой институции, дружит с Вайбелем. Разумеется, ZKM привлекает и главных философов времени: Жижека, Гройса, Слотердайка. Такое вот сочетание: художники ZKM работали (кто когда) телом и с телом, а философы, естественно, головой. После вернисажа разговорился я откровенно с умницей Клауке. На свободные темы. В частности, как живется критике. Я хотел рассказать, как у нас живется: плохо, методологии не отстроены, язык описания хромает. Говорю, мол, у вас такие философы в одной упряжке, с ними-то проблем нет. Но Клауке все-таки изначально телесник, нет у него святого предтерминологического трепета (то есть трепета перед терминами, перед господствовавшим тогда квази-философическим дискурсом). Он говорит:
– Не так все просто. Заказал я как-то статью коллеге.
Кому из трех философов, не упомню, поэтому дам обобщенный образ – Жижгрослот.
– И как?
– Да тот просто нахально скачал куски каких-то своих текстов. И один раз вставил мою фамилию – Клауке. И счет выдал.
– И ты? Скандал устроил? Отказал?
– Да нет. Попросил четыре раза проставить в текст Клауке. – И захохотал, как Вайбель над стихами про Карлсруэ. Тоже не дурак.
Где наше ни пропадало
Это не ошибка. И не филологическая каверза. Просто правда жизни. Просто напишу несколько заметочек о том, что с возу упало по моей собственной дурости.
Выставка Класа Олденбурга в Гугенхайме. Что говорить… Если меня пронимало современное искусство, то на таких выставках. А их было на моей памяти с десяток. Художник – в кресле, стар. Меня подводит к нему его брат, Ричард (Дик) Олденбург, бывший директор МОМа.
– Слышал, слышал, – вежливо говорит старик и показывает на огромный каталог. – Возьмите. – Я, как честный дурак, уставший перевозить тяжеленные каталоги, стал что-то бормотать. Типа премного благодарен, но может, музей перешлет мне, а то так не подъемно…
– Честный мальчик, – сказал Олденбург. – Люблю откровенность. Действительно, тяжелый, не для самолета. Жаль, хотел вам нарисовать что-нибудь…
Я похолодел. Но что делать. Не говорить же: дяденька, обмишурился я, нарисуйте хоть что-нибудь. Так и ушел. Откровенный! Таких откровенных поискать…
Биограф
Как-то сел у Гугенхайма в автобус, проехать по музейной миле вдоль Сентрал Парка. В автобусе почти пусто – день. Напротив сел цветущего вида джентльмен, к семидесяти. И вдруг, совершенно неожиданно для меня – никогда ранее в автобусах иначе как «вы выходите?» ко мне никто не обращался, этот джентльмен спрашивает: «Are you from art world?» Или еще проще: «From arts?» Что-то типа – вы из искусства? Может, пакеты мои разглядел с каталогами? Словом, идентифицировал. Польстил, короче говоря. Расположил к себе. Разговорились. Джентльмен оказался Джэкобом Баал-Тешувой. Знакомство продолжилось, и я не раз бывал в его квартирке на Манхэттене, рассматривал картины его жены Авивы и даже сделал ее выставку. Джэкоб был автором многих популярных книг по искусству и биографом М. Шагала. Молодым израильским журналистом (кажется, Израиль даже еще не был провозглашен как государство) он приехал в Париж и перезнакомился со всеми великими стариками: Шагалом, Пикассо, Леже и др. С Шагалом сдружился навсегда. Он рассказывал массу баек о Марке Захаровиче, которые не могли войти в официальную биографию. Одной поделюсь. Может, и апокриф. Итак, рассказ Баал-Тешувы.
– Марк, как вы знаете, был любезным человеком – обо всех своих знакомых отзывался восторженно, мог, причем в письменном виде, признать гения в любом, скажем, стихотворце или музыканте. Не скупился. Только о художниках отзываться не любил. Как-то мы с Авивой по его приглашению поехали к ним на ужин в Сен-Поль-де-Ванс. А днем зашли в Ницце на большую выставку Миро. И вдруг видим: по залам ходит Марк в странном виде – чуть ли не с накладным носом и в парике. Словом, маскируется. Мы поклонились, он сделал вид, что не узнал. Что делать. Причуды мастера. Вечером появляемся на вилле. Звоним в дверь. А там был у нас ритуал: «Здравствуйте, мэтр». – «Да какой я вам метр, так, миллиметр». Сходились обычно на сантиметре. За обычным разговором спрашиваю:
– Как вам Миро?
– Какой Миро? Я на выставке так и не был.
Промолчали – чудит старик… Поезд. Утром входим в квартиру. Звонок. Снимаю трубку – Марк. Давно звонит, накипело.
– Знаете, а все-таки ваш Миро – дерьмо!
Может, и апокриф.
Голышки в Мраморном
Много лет я работаю в Мраморном дворце. Помню, как во дворе мы водрузили на постамент ленинского броневика «Мраморный Форд» немецкого акциониста Ха Шульта. Кстати сказать, теперь броневик мне жаль – это был отличный образчик техно-реди-мейда. Прямо, как Дюшан прописал для наших планов превратить Мраморный в арсенал современного искусства. В музее Ленина вообще много было авангардного. Например, в витрине – пальто вождя, простреленное Фаней Каплан и заштопанное Надеждой Константиновной. (Таких уникальных пальто во всех музеях Ленина по России было штук десять.) Но концептуальным было другое. Пальто было одного размера, на человека небольшого роста. А рядом стояли как бы ленинские болотные сапоги. Для охоты. Причем другого, огромного размера. На какого-нибудь матроса Железняка. На худой конец, Дзержинского. Я, когда музей еще существовал, успел сделать слайды. И показывал на лекциях: вот – Кабаков, инсталляция «Рука и репродукция с Рейсдаля». А это – музей Ленина. Инсталляция с пальто и сапогами. Доходило. Но история не об этом. Это отцовская история. В пятидесятые на задах Мраморного, где-то на третьем этаже несколько молодых художников, отец в их числе, сняли мастерскую. Был у них дружок, кажется, замдиректора, он им это и устроил. Сняли для халтур – панно на ленинские темы, вполне в русле музейной специфики. Дело молодое, писали заодно обнаженных натурщиц. И как-то в здании напротив, в Ленэнерго (бывшие казармы Павловского полка), точнее, в его крыле, которое выходит на Миллионную, собирался какой-то районный партийный актив. Может, не районный, а местный, электрический, не важно. И видят делегаты: аккурат напротив их собрания, в окнах Мраморного, то бишь Музея В. И. Ленина, творится черт знает что. Провокация. Голые бабы. Звонок. Через десять минут этот самый зам, который не раз приходил в мастерскую с целью выпить (коррупция была минимальной и измерялась халявной бутылкой, правда, регулярной), чему не мешали никакие холсты с натурщицами, был уже там. Обычно ему не мешали не только холсты с натурщицами, но и сама живая натура. Теперь он пребывал в паническом настроении.
– Мужики, не губите. Прячьте голышек, комиссия на хвосте! Вот-вот нагрянут! Боже мой, голые бабы в музее Ленина! Пропал я, пропал!
Что делать? Выносить холсты по одному – не успеют. Прятать – найдут. Решили связать подрамники и спустить обнаженку вниз. Сказано-сделано. Часть художников сбежала вниз принимать холсты. Успели даже грузовик подогнать, люди были хваткие, войну прошли. Зам встречал комиссию. Партийцы тоже не лыком шиты: въедливые, поднаторевшие в разоблачениях враждебного элемента, – их за эту опытность там же на активе в комиссию и избрали, по горячим следам. Но след взять не удалось, ничего не нашли. Ложная тревога. А зам кипятился: «Как вы могли подумать, что в таком священном месте… Вот вам Ленин, вот вам Дзержинский. Обидно, товарищи». Но и электрические коммунисты, оставшиеся в зале заседаний, тоже не дураки. Они углядели, что обнаженку вниз спускают. И тут же оперативно настучали. Это был уже второй сорт разоблачителей. Подслеповатый. Говорят, голых баб на веревках эвакуируют. Это уж как-то совсем вызывающе. Не реалистично. Их подвела, конечно, не только слабость зрения, но и общая расстановка сил. Самые заядлые активисты как раз проверяли в этот текущий момент мастерские. Самые внушающие доверие. А эти, подслеповатые, были так себе, шелупонь рядовая. Доверенные даже возмутились: если уж мы ничего не накопали, то не вам встревать. Выдавать желаемое за действительное. Голышки им всюду мерещатся. Товарищи-художники работают над ленинской темой. Вызов, стало быть, ложный. И точка. Такой вот рассказ. Вполне contemporary. Про акционистскую артикуляцию телесного во враждебном социуме. Правильная история для Мраморного дворца.
Профессор Каганович
Профессор Каганович был обаятельнейшим человеком – шармер, душа любой компании. Мои родители смолоду приятельствовали с ним, в семейном обиходе он был Абрамом, без отчества. С ним связывались истории и анекдоты житейского плана, которые, пока я был маленьким, рассказывались приглушенным голосом. Для студенток нескольких поколений он был живой и желанной легендой. Недавно я перечитал его работы – конечно, как искусствовед, по отпущенным ему возможностям, он мог сделать гораздо больше. Видимо, он с молодости, пришедшейся на «борьбу с космополитизмом», вынужден был постоянно доказывать свою лояльность. Академическая жизнь, в конце 1940-х идеологизированная донельзя, и впоследствии держала его мертвой хваткой. Карьера подразумевала большие обременения. Думаю, его личностная яркость была своего рода компенсацией профессиональных ограничений, которые он прекрасно осознавал. Коль скоро приходилось отмалчиваться или произносить ритуальные речи в публичной жизни, в частной Абрам Львович давал себе волю. Его бонмо расходились от преподавательских застолий до студенческих. Впрочем, в последние годы (собственно, тогда я и слушал его лекции) они были окрашены грустной интонацией.
– Раньше студентки мне говорили: «Абрам Львович, возьмите меня». Теперь: «Абрам Львович, возьмите меня в аспирантуру».
Поезд
Как-то само собой оказалось: очутился на летном поле в Пулково в группе из десятка сравнительно молодых людей. Кое-кого я знал понаслышке (композитор С. Баневич и пианист П. Егоров), кто-то учился со мной в Репинском (Сергей Кирпичев и Олег Яхнин, графики, и Алик Асадулин, певец, но тоже наш, учился на архитектурном). Далее тек ручеек совсем одинаковых учениц старших классов Вагановского. И совсем отдельно шествовал с большим иностранным баулом юноша в черном с густой черной же шевелюрой.
– Держись от него подальше, – шепнул бдительный Кирпичев. – Какой-то он не наш.
Действительно, вид у него был театрально-зловещий. Как мы там все оказались?
Была такая практика в позднесоветские времена: творческие союзы посылали лучших своих представителей в отдаленные трудовые коллективы. Лучших? Все понимали, что это сомнительно. Например, был случай с одним поэтом, тишайшим человеком, собирателем матерных частушек. Он после поездки, о которой пойдет речь, подарил нам всем по книжке своей лирики. Под названием «Однолюб». Когда я, вернувшись, рассказал об этом в доме поэтов Нонны Сле-паковой и Льва Мочалова, Лев Всеволодович, мой старший друг и сослуживец по Русскому музею, посмотрел на меня странно.
– Не может быть, чтобы тот самый, – он внимательно изучил обложку. – Нет, тот. Помню его дело. В Союзе писателей обсуждалось. Дело не политическое, уголовное: ничем помочь не смогли. Получил срок за изнасилование. Групповое. После всего этого он вроде как квартиры лишился, поэтому и ездит по всяким творческим командировкам. Жить-то негде. Не берусь судить, в чем там было дело. – Лев Всеволодович человек исключительной щепетильности в вопросах человеческих отношений. – Но согласитесь, странно после всей этой истории назвать книгу своих стихов «Однолюб».
Не спорю. Так что насчет лучших своих представителей перебарщивали. Вот и мы, посланцы Союза художников, ничем таким особо позитивным не отличались. Хотя, конечно, и не «однолюбы». Дома надоело, и согласились поехать на БАМ. Да. Тот самый. «Строить путь железный, а короче – БАМ». Конечно, не строить. Встречаться с тамошними работягами. Черпать у них творческие силы. И отдавать им, вестимо, наши. Летим до Иркутска. Поздний вечер. Ресторан в аэропорту закрыт.
– Ребята, – это мы к официантам, – нам бы перекусить…
– А пошли вы… Не видите – закрыто. – Зло так ответили, бескомпромиссно. Сопровождающий стал совать официантам свою красную книжечку, они совсем уж озверело послали его. Надо сказать, время – чуть перевалило за середину семидесятых – почему-то запомнилось таким, что любое начальство нижестоящие люди (если не было прямой зависимости или угрозы) ненавидели от души. А в Иркутске, как оказалось, этого даже и не скрывали. Облом. Особенно неудобно было перед балетными девушками. Зачем их повезли на БАМ – неизвестно, тем более, к нашему общему сожалению, они были под плотным надзором своих воспитателей. И в дальнейшем носу из вагона не казали. Об этом позднее. А тогда мы, в надежде совершить на глазах этих балетных чудо, совершенно бесполезно совались к отдельно стоявшим официантам с баснословными, по нашим меркам, денежными предложениями. Официанты смотрели презрительно. Нам, каким-никаким, а мастерам культуры, было обидно. Тут вперед выступил черный человек. Тот самый, которого советовал остерегаться осторожный Кирпичев. Черный человек, присмотревшись к подносу с пустыми бокалами, что-то там переставил и быстрым движением запустил бокалы высоко вверх.
«А вот теперь п-ц», синхронно подумали мы. Официанты ощерились. Но тут черный человек невыносимо элегантным движением подхватил падающие бокалы на поднос. Они встали, не дрогнув, как влитые. Смельчак учтиво представился: престидижитатор, лауреат Токийского циркового (кажется, так) фестиваля Лазарь Лаузенберг (за точность имени-фамилии не ручаюсь) … Эффект был поразительный. Официанты стали метать на стол тарелки с закусками.
– Фокусник, говоришь, – подошел старый метр. – Я еще Вольфа Мессинга знавал, выступал у нас в Иркутске. Кормил его в тогдашнем «Центральном». Тогда самый лучший был. Сейчас таких и нет. Водочки, водочки неси, – между делом наставлял он молодого официанта.
Мы поняли: с таким престидижитатором не пропадем. Лазарь показал еще несколько фокусов, менее рисковых, походя забрал у молодняка бумажники с чаевыми так, что они и не шелохнулись, отдал, снял пару-тройку наручных часов и снова отдал. Словом, ночь прошла в полном братании. Наутро вокзал. В скромном депутатском зале установочная беседа с каким-то матерым цековским комсомольцем. Оказывается, цель нашей поездки – не только взаимоподпитка энергией с рабочим классом. Мы – работники идеологического фронта.
– Во враждебном западном мире ширится контрагитационная кампания по дискредитации нашего БАМа. И всего, что с ним связано. Вы должны ответить на это своей… – Тут он задумался… – Контр-контрагитационной работой. Попросту говоря, показать людям доброй воли реальные достижения строителей БАМа. (Это – после, дома, причем всем нашим творчеством и жизненной позицией.) Ну а пока строителям – теплоту душ советских людей, которые душой – с ними…
Складно говорил начальник. Тогда все эти спичи – от речей Генерального секретаря и до пассажей лектора из захудалого райкома – воспринимались чисто ритуально. Никому бы в голову не пришло выстраивать какую-то причинно-следственную связь между озвученным и реальной жизнью. («Озвучить» – нынешнее выражение, в брежневские времена за него бы не поздоровилось: «как это озвучено – генсек, да пусть и любой секретарь захудалого райкома, по-вашему, уже и губами не шевелят? Повашему, сам – взгляд кверху – уже и говорить не может?!») Так что мы выслушали комсомольского чина с полным ритуальным спокойствием. Никаких вопросов. Он оценил нашу реакцию и в конце даже сказал что-то человеческое, сочувственное. А именно:
– Ребята, вам не сказали, но по всему БАМу – сухой закон. Я уж не знаю, как вы там. Словом, сами справляйтесь.
Расселились по купе. Мне достались Яхнин, Кирпич и Престидижитатор. Лазарь оказался очаровательным человеком с уже немалым опытом жизни. Дар у него был семейный. Он не смог его скрыть даже во время службы в армии: Лазарь научил весь взвод кидать ушанки вверх на предельную высоту и ловить их головой. Аккурат к приезду генерала. Тот после подобного приветствия решил, что допился до белой горячки, и слег. А Лазаря после отсидки на губе запустили по военно-артистической линии, в какой-то ансамбль. На гражданке отец, тоже цирковой, заставил его учиться токарному делу, чтобы самому делать себе реквизит. Он жонглировал, показывал фокусы, строил сложные инсталляции, словом, был на все руки. Много выступал, даже в Японии. В пути Лазарь постоянно тренировался. Накидывал шапку на самый отдаленный гвоздь. По утрам у всех снимал часы в условиях нашего полного контроля – снимал и все тут, разминался. Подолгу меланхолически стоял на голове. Оживлялся он только на недолгих стоянках. Нужно было доставать спиртное, несмотря на все запреты. Это делалось так (увы, наш опыт уже никому не пригодится. Хотя как знать). На каждой станции был лабаз, в нем монументальная, все повидавшая тетка с химзавивкой. Фернандо Ботеро такие и не снились. У нас все было рассчитано по Станиславскому. Первым подходил я как типичный очкастый ботаник ненавистного интеллигентского вида (я, конечно, подыгрывал, после службы в Декоративно-прикладном комбинате, которую я где-то описывал, все же накопил кое-какой опыт выживания). Дрожащим голосам невыносимо вежливыми оборотами осведомлялся, нельзя ли в обход сухого закона достать пару бутылок – у меня, дескать, день рождения. Мне презрительно – как и предполагалось – указывали на дверь.
– Ходят здесь всякие…
Я был для разогрева. Следом шел более классово внятный человек – тот самый, который «Однолюб» (подробностей его жизни мы, конечно, не знали). Он читал продавщице (имя-отчество узнавалось заранее у аборигенов) вирши, довольно шустро зарифмованные, про все ее душевно-телесные красоты. Сердце ее оттаивало, но не настолько, чтобы лезть под прилавок. Но такая мысль уже зарождалась в ее голове. Затем появлялся инфернальный Лазарь Лаузенберг. Мы – это было его заранее оговоренное требование – удалялись. Никто из нас так и не узнал, что делал Лазарь с продавщицами. Показывал фокусы, вынимал из укромных мест – ушей, например, – конфетки, просто угадывал, где спрятано спиртное, – но без пары бутылок он не возвращался. Мы любили потом из окон смотреть, как к лабазу двигались комсомольские вожаки. Они не спешили – без них поезд не отойдет. Они были уверены, что для них-то отложено. Им даже корочки свои красные не надо было предъявлять.
– Ваши уже отоварились, – злорадно сообщали вожакам продавщицы.