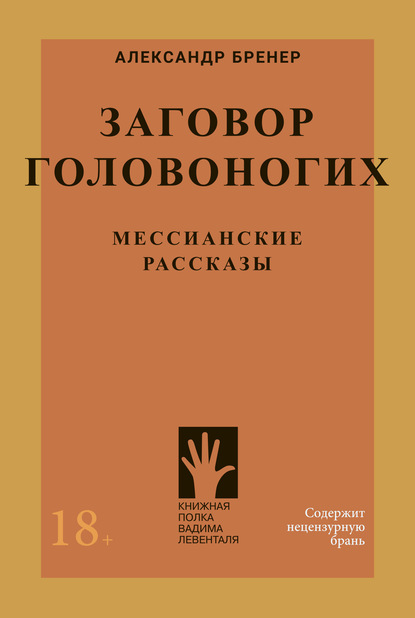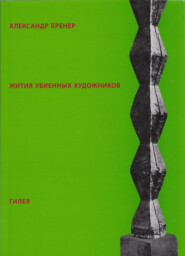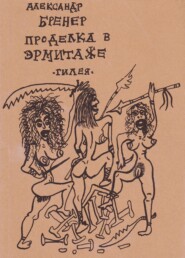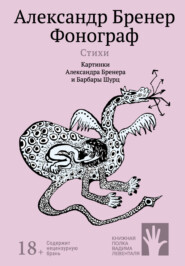По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заговор головоногих. Мессианские рассказы
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тут я схватился за перила и поглядел вниз – с нашего неописуемо высокого двадцать четвертого этажа.
Ох!
Там, на земле, виднелся газон с зелёной травой, и на нём что-то лежало – совсем маленькое.
Крошечная фигурка, словно муравей или кузнечик, только человеческий.
А рядом с фигуркой уже суетились махонькие людишки: размахивали руками, приседали, что-то кричали, бегали.
Тут-то до меня и дошло: лежащий кузнечик – мой веснушчатый гость, сломанный.
Ах, как мне стало не по себе!
Ой!
6. Вернулась с хлебом Варвара – бледная, взбудораженная.
– Кто-то упал или прыгнул с балкона, – сказала она. – Внизу лежит.
Я сидел на диване и смотрел на зелёную палочку.
Я положил её рядом с собой, но почему-то не смел к ней притронуться.
Существо сказало: палочка волшебная.
Но я не мог вспомнить: как воспользоваться волшебной палочкой?
Роберто Боланьо – это я
Но идентификация – это когда кажущееся чем-то этим и оказывается, а при этом казавшаяся базовой и фундаментальной «реальность» оказывается фиктивной, фикцией.
Леон Богданов
1. Есть один писатель, которому я страшно завидую.
Впрочем, я завидую многим писателям.
Например, Сэмюэлю Беккету, – я завидую не только его несравненным произведениям, но и его атлетическому телосложению (когда-то в Париже в книжном магазине я видел фото Беккета с обнажённым торсом и чуть не умер от зависти).
Ещё я завидую Пушкину, потому что его можно читать в любом возрасте и в любом настроении, и он всегда возвращает тебя в исконный возраст и в искомое настроение.
Ещё я завидую Фолкнеру – ведь у него была его Йокнапатофа, в которой он мог делать всё что ему необходимо.
Настоящий писатель делает только то, что необходимо, а вовсе не всё, что пожелает.
Также я завидую Шахерезаде с её сказками и ещё Шарлю Перро, братьям Гримм, А. Н. Афанасьеву, Карло Коллоди, Хансу Кристиану Андерсену, Вильгельму Гауфу и вообще всем сказочникам, потому что считаю сказку наивысшим словесным жанром, но больше всего я завидую анонимным народным сказочникам, ибо они не нуждались ни в публикаторах, ни в бумаге, ни в ручке, а только в чьём-нибудь доброжелательном ухе, готовом услаждаться их потешными и страшными историями.
Честно говоря, я завидую всем писателям, которые не заботились о публикации своих опусов.
И, конечно, я завидую Юрию Олеше: завидую его повести «Зависть», написанной им в молодости, после чего он уже ничего не мог написать, потому что оказался беззащитен перед всё более наглеющей властью, которая зажала его, как и всех остальных писателей, в своём удушающем кулаке, хотя Олеша всё же изловчился, на минутку высвободился и написал сказку «Три толстяка», которая очень мне нравилась в детстве, а потом снова ничего не писал, а просто сидел и пил водку в ресторане гостиницы «Метрополь» и отпускал язвительные замечания в адрес других писателей, но в то же время писал свою книгу «Ни дня без строчки», – вернее, не книгу, а гнигу: что-то вроде дневника, вроде воспоминаний, наблюдений и размышлений, ведь он прекрасно понимал, что никакая книга уже невозможна, что время книги прошло и наступило время жизни и смерти.
Если вдуматься, я завидую всем мёртвым – писателям и не-писателям.
2. Но Роберто Боланьо, о котором пойдёт речь ниже, я завидую несколько иначе, чем Пушкину, Фолкнеру или Беккету, иначе, чем всем превосходным поэтам и сказочникам, которым я ежедневно, ежечасно, ежеминутно завидую.
Так как же я ему завидую?
А вот: я завидую Боланьо как самому себе, потому что иногда мне кажется, что Боланьо – это я.
Да, именно я, только родившийся не в советской Алма-Ате, а в Сантьяго – столице Чили, и сбежавший не от советского строя, а от генерала Пиночета, и проведший всю жизнь в скитаниях, как настоящий бездомный писатель, образ которого я лелею в своём воображении.
Да, великий бездомный писатель Боланьо – это я, вот какая чушь приходит мне в голову!
Но эта мысль – что я на самом деле Боланьо, а вовсе никакой не Бренер – эта странная идея является совершенно обычным моим умопомрачением, привычным бредом и томлением.
Я знаю, что загубил в себе какие-то прекрасные возможности, а вот Боланьо – нет (так мне хочется надеяться), и поэтому я влачусь за тенью этого блестящего писателя как его взывающая и завывающая тень.
В одном из своих рассказов Боланьо описывает, как он бродит с датской девушкой по готическому кварталу Барселоны, и его спутница велит ему присмотреться к теням, которые отбрасывают их фигуры.
Боланьо замечает эти тени, упавшие на древние стены, и тут датчанка говорит, что у теней есть особая, отдельная жизнь, хотя мало кто это понимает.
Боланьо приглядывается к своей тени, и ему кажется, что тёмный вытянутый силуэт искоса смотрит на него и шевелит губами.
Боланьо поражён, а затем они вчетвером – Боланьо, девушка и их тени – растворяются в бесформенном мраке.
Когда я прочитал этот отрывок, то сразу понял: тень, косящаяся на Боланьо, тень, которую он в конце концов заметил и присутствие которой его поразило, эта тень – я, я, Александр Бренер.
Я и есть его тень, то возникающая, то исчезающая – в зависимости от Луны или Солнца.
Как писал Константин Вагинов:
Прохожий обернулся и качнулся
Над ухом слышит он далёкий шум дубрав
И моря плеск и рокот струнной славы
Вдыхает запах слив и трав.
«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.
3. Тень – это тень чего-то иного, возникшего на миг и исчезнувшего.
Боланьо был бездомным писателем, который то возникал, то исчезал там и сям – как тень, а не как заслуженный деятель культуры.
Я говорю, разумеется, не только о его физических скитаниях, хотя и о них тоже: о странствиях вечного беженца и эмигранта, всплывавшего то в Мексике, то в Чили, то в Эль-Сальвадоре, то в Испании, то в Нидерландах, то в Рио-де-Жанейро, то в парижском отеле на улице Сен-Жак, то в бельгийском местечке Мануи-Сен-Жан, то в Швейцарии на озере Лаго-Маджоре…
Я говорю ещё и о политическом бродяжничестве Боланьо, который успел побывать троцкистом, сторонником правительства Сальвадора Альенде, одиноким писателем, наблюдателем краха Латинской Америки и Европы, аналитиком писательского ничтожества, мечтателем, коммунистом…
Я говорю ещё и о скитальческом писательском методе Боланьо, который с величайшим умением использовал всевозможные литературные жанры: детективную историю, книжную рецензию, авантюрную новеллу, древнюю притчу, авангардистский опус, приключенческий роман, журналистский репортаж, стихотворение, путевые заметки, философское эссе, записанный сон, анекдот, очерк.
Ох!
Там, на земле, виднелся газон с зелёной травой, и на нём что-то лежало – совсем маленькое.
Крошечная фигурка, словно муравей или кузнечик, только человеческий.
А рядом с фигуркой уже суетились махонькие людишки: размахивали руками, приседали, что-то кричали, бегали.
Тут-то до меня и дошло: лежащий кузнечик – мой веснушчатый гость, сломанный.
Ах, как мне стало не по себе!
Ой!
6. Вернулась с хлебом Варвара – бледная, взбудораженная.
– Кто-то упал или прыгнул с балкона, – сказала она. – Внизу лежит.
Я сидел на диване и смотрел на зелёную палочку.
Я положил её рядом с собой, но почему-то не смел к ней притронуться.
Существо сказало: палочка волшебная.
Но я не мог вспомнить: как воспользоваться волшебной палочкой?
Роберто Боланьо – это я
Но идентификация – это когда кажущееся чем-то этим и оказывается, а при этом казавшаяся базовой и фундаментальной «реальность» оказывается фиктивной, фикцией.
Леон Богданов
1. Есть один писатель, которому я страшно завидую.
Впрочем, я завидую многим писателям.
Например, Сэмюэлю Беккету, – я завидую не только его несравненным произведениям, но и его атлетическому телосложению (когда-то в Париже в книжном магазине я видел фото Беккета с обнажённым торсом и чуть не умер от зависти).
Ещё я завидую Пушкину, потому что его можно читать в любом возрасте и в любом настроении, и он всегда возвращает тебя в исконный возраст и в искомое настроение.
Ещё я завидую Фолкнеру – ведь у него была его Йокнапатофа, в которой он мог делать всё что ему необходимо.
Настоящий писатель делает только то, что необходимо, а вовсе не всё, что пожелает.
Также я завидую Шахерезаде с её сказками и ещё Шарлю Перро, братьям Гримм, А. Н. Афанасьеву, Карло Коллоди, Хансу Кристиану Андерсену, Вильгельму Гауфу и вообще всем сказочникам, потому что считаю сказку наивысшим словесным жанром, но больше всего я завидую анонимным народным сказочникам, ибо они не нуждались ни в публикаторах, ни в бумаге, ни в ручке, а только в чьём-нибудь доброжелательном ухе, готовом услаждаться их потешными и страшными историями.
Честно говоря, я завидую всем писателям, которые не заботились о публикации своих опусов.
И, конечно, я завидую Юрию Олеше: завидую его повести «Зависть», написанной им в молодости, после чего он уже ничего не мог написать, потому что оказался беззащитен перед всё более наглеющей властью, которая зажала его, как и всех остальных писателей, в своём удушающем кулаке, хотя Олеша всё же изловчился, на минутку высвободился и написал сказку «Три толстяка», которая очень мне нравилась в детстве, а потом снова ничего не писал, а просто сидел и пил водку в ресторане гостиницы «Метрополь» и отпускал язвительные замечания в адрес других писателей, но в то же время писал свою книгу «Ни дня без строчки», – вернее, не книгу, а гнигу: что-то вроде дневника, вроде воспоминаний, наблюдений и размышлений, ведь он прекрасно понимал, что никакая книга уже невозможна, что время книги прошло и наступило время жизни и смерти.
Если вдуматься, я завидую всем мёртвым – писателям и не-писателям.
2. Но Роберто Боланьо, о котором пойдёт речь ниже, я завидую несколько иначе, чем Пушкину, Фолкнеру или Беккету, иначе, чем всем превосходным поэтам и сказочникам, которым я ежедневно, ежечасно, ежеминутно завидую.
Так как же я ему завидую?
А вот: я завидую Боланьо как самому себе, потому что иногда мне кажется, что Боланьо – это я.
Да, именно я, только родившийся не в советской Алма-Ате, а в Сантьяго – столице Чили, и сбежавший не от советского строя, а от генерала Пиночета, и проведший всю жизнь в скитаниях, как настоящий бездомный писатель, образ которого я лелею в своём воображении.
Да, великий бездомный писатель Боланьо – это я, вот какая чушь приходит мне в голову!
Но эта мысль – что я на самом деле Боланьо, а вовсе никакой не Бренер – эта странная идея является совершенно обычным моим умопомрачением, привычным бредом и томлением.
Я знаю, что загубил в себе какие-то прекрасные возможности, а вот Боланьо – нет (так мне хочется надеяться), и поэтому я влачусь за тенью этого блестящего писателя как его взывающая и завывающая тень.
В одном из своих рассказов Боланьо описывает, как он бродит с датской девушкой по готическому кварталу Барселоны, и его спутница велит ему присмотреться к теням, которые отбрасывают их фигуры.
Боланьо замечает эти тени, упавшие на древние стены, и тут датчанка говорит, что у теней есть особая, отдельная жизнь, хотя мало кто это понимает.
Боланьо приглядывается к своей тени, и ему кажется, что тёмный вытянутый силуэт искоса смотрит на него и шевелит губами.
Боланьо поражён, а затем они вчетвером – Боланьо, девушка и их тени – растворяются в бесформенном мраке.
Когда я прочитал этот отрывок, то сразу понял: тень, косящаяся на Боланьо, тень, которую он в конце концов заметил и присутствие которой его поразило, эта тень – я, я, Александр Бренер.
Я и есть его тень, то возникающая, то исчезающая – в зависимости от Луны или Солнца.
Как писал Константин Вагинов:
Прохожий обернулся и качнулся
Над ухом слышит он далёкий шум дубрав
И моря плеск и рокот струнной славы
Вдыхает запах слив и трав.
«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.
3. Тень – это тень чего-то иного, возникшего на миг и исчезнувшего.
Боланьо был бездомным писателем, который то возникал, то исчезал там и сям – как тень, а не как заслуженный деятель культуры.
Я говорю, разумеется, не только о его физических скитаниях, хотя и о них тоже: о странствиях вечного беженца и эмигранта, всплывавшего то в Мексике, то в Чили, то в Эль-Сальвадоре, то в Испании, то в Нидерландах, то в Рио-де-Жанейро, то в парижском отеле на улице Сен-Жак, то в бельгийском местечке Мануи-Сен-Жан, то в Швейцарии на озере Лаго-Маджоре…
Я говорю ещё и о политическом бродяжничестве Боланьо, который успел побывать троцкистом, сторонником правительства Сальвадора Альенде, одиноким писателем, наблюдателем краха Латинской Америки и Европы, аналитиком писательского ничтожества, мечтателем, коммунистом…
Я говорю ещё и о скитальческом писательском методе Боланьо, который с величайшим умением использовал всевозможные литературные жанры: детективную историю, книжную рецензию, авантюрную новеллу, древнюю притчу, авангардистский опус, приключенческий роман, журналистский репортаж, стихотворение, путевые заметки, философское эссе, записанный сон, анекдот, очерк.