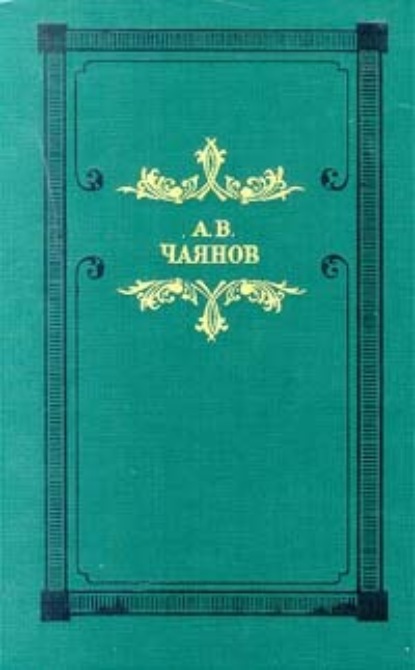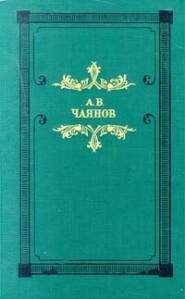По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Венедиктов или достопамятные события жизни моей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я снова впал в задумчивость, мысли застывали, как мухи попавшие в черную патоку, и все чувства бесконечно ослабли. Одно только чувствование обострилось и утончилось сверхъестественно, и я сквозь гнилой московский туман ясно ощущал, что где-то по улицам гигантская черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня.
Желая оторваться от навязчивого ощущения, я сильно тряхнул своею головой и вдохнул полною грудью ночной воздух.
Налево вырисовывалась черным силуэтом ветла. Впереди терялась во мраке полоса Камер-Коллежского вала. За ним сонно надвинулись напластования марьино-рощинских домиков. Дымился туман, было далеко за полночь.
Я уже соображал прямую дорогу, желая направиться домой. Думал разбудить Феогноста и велеть ему заварить малину и согреть пунш, как вновь почувствовал, что припадок возобновился, и во мраке улиц вновь ощутил я приближение черной кареты. Хотел бежать. Но мои ноги вросли в землю, и я остался недвижным. Чувствовал, как, поворачивая из улицы в улицу, близился страшный экипаж. Мостовая дрожала с его приближением. Холодный пот увлажнял мой лоб. Силы покидали меня, и я принужден был опереться о ствол ветлы, чтобы не упасть.
Прошло несколько томительных минут, и справа показалась чудовищная карета. В дрожащем голубом свете ущербной луны ехала она по валу, раскачиваясь на своих рессорах. На козлах сидел кучер в высоком цилиндре и с вытаращенными стеклянными глазами.
Карета поравнялась со мною. Дверца ее внезапно открылась, и женщина, одетая в белое, держа что-то в руках, выпала из нее на всем ходу и, запутавшись в платье, упала на землю. Карета немного отъехала, круто повернула и остановилась. Кузов ее неестественно сильно наклонился набок.
Незнакомец вышел и быстро подошел к женщине. Настенька, это была она, вскочила и с криком «нет у вас больше надо мною власти!» побежала к пруду. Не имея сил добежать, она подняла предмет, бывший у нее в руках, над головою и, бросив его с размаха в воду, упала. Гнилая ночная вода пруда проглотила брошенное.
Незнакомец приближался. Рыдания Настенькины наполнили мою душу ужасом, и готов я был броситься к ней на помощь, но не смог сделать ни шагу и снова почувствовал себя в безраздельной его власти и, как заговоренный, стоял у ветлы.
«Эй, ты!» – услышал я его властный голос, и ноги мои подошли к нему.
Не помню, как мы подняли с земли мою Настеньку, как уложили ее в карету, как сел я с ней рядом, как тронулась карета. Помню только, что долго видел я, отъезжая в ночном тумане, сгорбленную фигуру незнакомца, стоящего у берега пруда и упорно ищущего что-то, наклоняясь.
ГЛАВА IV
Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ея домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы.
Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван, под часы карельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку.
Долго не могли мы привести ее в чувство. Настенька, бедная, плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила.
Стало светать. Третьи петухи запели, как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарина, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь, золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в Копье, церкви ударили к заутрене.
Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофий. Добрая женщина встретила меня, как давнишнего знакомого, хотя допрежде того мы никогда не встречались.
Никогда не забуду я этого дня, все мне в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горку с фарфоровой и серебряной посудой… Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном.
Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.
ГЛАВА V
Уже вечерело, когда я шел по Петровке, направляясь к Арбату и держа в руках синий, небольшого формата конверт, на котором Настенькиной рукой было написано: «Господину Петру Петровичу Бенедиктову в собственные руки в номера Мадрид, что на Арбате».
Конверт надушен был терпким запахом фиалок, а в моей душе намечалось странное чувство ревности, на которую не имел я никакого права.
Шел я в рассеянности, и у Петровских ворот чуть не сшибли меня с ног кареты знатных посетителей, съезжавшихся в Английский клуб. Монументальная белая колоннада клуба, окаймленная золотом осенних листьев, принимала подъезжавших посетителей. Ленты осенних бульваров, полные яркой радости, подчеркивали синеву неба. Сгустки облаков застыли над Москвой. Золото осени падало на новую московскую Данаю, медленно шедшую передо мною по аллее, кого-то поджидая. На ней было синее канзу, а тонкая рука ее сжимала пучок завянувших астр.
Венедиктов сидел посреди 38 номера на засаленном, просиженном зеленом диване и курил трубку с длинным чубуком. На нем был яркий бухарский халат, открывавший волосатую грудь. В комнате в беспорядке разбросаны были различные вещи. Раскрытые баулы и сундуки говорили о готовящемся отъезде. На столе стояла железная кованая шкатулка.
«А, это ты?» – холодно и недовольно встретил меня Венедиктов. В полном трепета молчании протянул я ему письмо. Нехотя взял он его и, взглянув на почерк, вздрогнул. «Как!?» Встал. Провел руками по овлажненному лбу, посмотрев на свет, вскрыл пакет. Стал читать, волнуясь до чрезвычайности.
Почитая свою миссию законченной, счел я за лучшее незаметно уйти, оставив его посреди комнаты с роковым письмом в руке.
На заплеванной и полутемной лестнице меблированных комнат пахло кислой капустой, и какой-то корявый и веснушчатый мальчишка чистил, приплевывая, гусарские ботфорты. Выйдя на улицу, вздохнул я свободно.
Ах, господа, трудно до чрезвычайности носить кому-либо запечатанные письма от той, которую любишь безмерно.
Ступая по лужам и не зная, куда направить путь свой, снова почувствовал я гнет чужой воли над своею душою. Ощущал тягостно, что приказывает он мне вернуться. Кутался в плащ, твердо решив не поддаваться его власти и продолжать путь свой. Душа моя походила на иву, сгибаемую ветром надвинувшейся бури, в ее порывах изгибающей ветви свои.
Душа моя становилась безвольна и растворялась бесследно в чужой, мрачной, как воды Стикса, дьявольской воле.
Бесшумно отворил я дверь тридцать восьмого номера, как провинившийся школьник стал у притолоки. Венедиктов сиял, вся комната преобразилась.
Вещи, приготовленные к отъезду, были заброшены под диван. На столе в бемских бокалах искрилось шампанское, а устрицы и лимбург смешивались с плодами московских оранжерей.
«Как я могу отблагодарить тебя, Булгаков!» – сказал Петр Петрович, протягивая мне бокал. – «Сам Гавриил не мог бы принести мне вести более радостной, чем ты! Эх! Если бы ты мог что-нибудь понимать, Булгаков. Душа освобожденная, сбросившая цепи, любит меня!»
Недопитое вино искрилось в бутылках. Венедиктов был уже пьян в высшей степени. Он усадил меня за стол и с пьяным дружелюбием и настойчивостью потчевал меня яствами своими.
Искрометная влага Шампании сделала язык его разговорчивым, и он изливал передо мною любовную тоску свою. Все более хмелея, повторял ежеминутно: «Эх, если бы ты что-нибудь понимал, Булгаков!» Наконец, придя в неистовство, ударил кулаком своей большой руки, на которой сверкнул железный перстень, по столу так, что замерцали свечи, и бокал, упав на пол, разбился с трепетным звоном. Воскликнул: «Я – царь! А ты червь передо мною, Булгаков! Плачь, говорю тебе!» И я почувствовал, как горесть наполнила душу мою. Черствый клубок подступил к моему горлу, и слезы побежали из моих глаз.
«Смейся, рабская душа!» – продолжал он, хохоча во все горло, и поток солнечной, мучительной радости смыл мою скорбь. Все, казалось, наполнилось звенящей радостью – и персики, разбросанные по столу, и осколки разбитого бокала, и канделябры мерцающих свечей, стоящие на смятой и залитой вином скатерти.
«Беспредельна власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем больше тоски». И он со слезами в голосе повествовал, как склоняются перед ним человеческие души, как гнутся они под велением его воли. Как любит он Настеньку, как хотел он ее любви. Не подчинения, а свободной любви. Не по приказу его воли, а по движению душевному. Как боялся он отказаться от власти над нею, страшась навсегда потерять ее. Как отрекся он минувшей ночью от власти над Настенькиной душой и как наградит его Всевышний ее свободною любовью, вестником которой и был синий конверт, мною принесенный.
Ум его темнел, и он, размахивая руками, ходил по комнате, как в бреду, рассказывая бессвязно. Тень или, вернее, многие тени его шагающей фигуры раскачивались по стенам. В незанавешенные окна вливался холодный свет луны, смешивающийся с мерцающим желтоватым светом восковых свечей канделябра. Глухо донеслись полночные перезвоны Спасской башни.
«Ничего ты не понимаешь, Булгаков! – резко остановился передо мной мой страшный собеседник. – Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке? – сказал он в пароксизме пьяной откровенности. – Твоя душа в ней, Булгаков!»
ГЛАВА VI
Было около двух часов ночи. Венедиктов налил себе бокал и, выпив, продолжал свой рассказ.
«И вот, понимаешь, когда вошел из темноты я в эту комнату, глаза мои застлались от едкого табачного дыма с примесью какого-то запаха серы. Клубились тяжелые струи дыма, сверкали лампионы, вместо свечей уставленные плошками, извергавшие красные и голубые, как от горения спирта, языки пламени. На огромном, круглом, покрытом черным сукном столе сверкали перемешанные с картами золотые треугольники. Десятка три джентльменов, изящно одетых в красные и черные рединготы, в черных цилиндрах, все с такими же геморроидальными лицами, как и у моего спутника, в полном молчании, прерываемом проклятиями, играли в пикмедриль. Рыжий, которого я спас на углу Уйтчапля от разъяренной толпы клириков, пожал ближайшим джентльменам руки и сел за стол, совершенно забыв о моем присутствии.
Предоставленный самому себе, я попытался осмотреться. Комната, показавшаяся мне вначале сводчатой, поскольку можно было рассмотреть сквозь клубы вонючей гари, или была вовсе лишена потолка, или он был прозрачен, так как кругом мерцали мириады звезд, застилаемые струями дыма. В глубине направо высилось колоссальное изваяние, я узнал в нем ритуальное изображение Асмодея в виде козла. Именно так изображен он в книге Брайтона. Нет сил передать всю гадость и похотливость неистовства приданной ему позы. С ног до головы изваяние было залито испражнениями, горевшими голубым огнем, а новые и новые толпы посетителей с проникновенным трепетом облегчали свои желудки в жертву богу дьяволов. Смрад, поднимавшийся от этой черной мессы, заслонял стоящего на голове чудовища дряхлого Иерофанта с выпяченным животом, размахивающего двумя факелами. В серном тумане светлыми пятнами маячили круглые, покрытые сукнами столы, где джентльмены предавались карточной игре или обжорству… казалось, передо мной был шабаш ведьм мужского пола.
«Ха, Шлюсен», – дернул меня за руку плюгавый старик и просил, передавая карты, докончить партию за него, пока он отлучится, обещая поделить выигрыш пополам. Я сел, не отдавая себе отчета, и взял в руку карты; кровь прилила у меня к голове и забилась в висках, когда взглянул я на них.
Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть, голые животы наливали кровью мои глаза, и я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут, дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета – отвратительного негра, подергивавшегося в какой-то похотливой судороге, я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатились кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих трехугольников. Как удары молота, стучала кровь в моих висках. Но я, боясь выдать себя, продолжал играть. Карта мне шла, и неистовые оргии карточных персонажей, сплетавшихся во славу Приопа… решались в мою пользу.
Когда плюгавый джентльмен вернулся, передо мною на столе лежала изрядная кучка металла. Он, видимо, был неожиданно обрадован и, сунув горсть трехугольников мне в руки, похлопал по спине. Воскликнул: «Ха, Шлюсен», и погрузился в игру. Оторвавшись от дьявольских карт, я обвел залу помутившимся взором налитых кровью глаз. Для меня не оставалось более сомнения, что нахожусь я в клубе лондонских дьяволов. Приходилось думать о бегстве. Рыжий джентльмен, встреченный мною в Уитчапле, вряд ли мог быть для меня полезен. Он был в сильном проигрыше, и волосы его бакенбардов в неистовстве сжимались и разжимались, как спирали пружин… На счастье, увидел я двух косопузых карапузиков в красных рединготах, янтарных лосинах и черных цилиндрах, которые, о чем-то споря, простились с соседями и, очевидно, направились к выходу. Незамеченным последовал я за ними. Они подошли к плотной кирпичной стене и, не замедляя шага, слились с нею. Я бросился к ней, выдвигая правое плечо вперед, ожидая удара холодного камня. И только коснулся ее поверхности, как увидал себя в сутолоке вечерней толпы Пикадилли-стрит».
Венедиктов остановился, вытер платком вспотевший лоб, залпом осушил стакан и продолжал:
«Когда я вернулся в гостиницу и разложил семь мною выигранных трехугольников посередине стола, долго не мог я понять их значения. Это были толстые золотые и, очевидно, платиновые пластины, с вырезанными на них знаками Аик-Бекара и пентаклем, сильно потертые и бывшие, очевидно, в немалом употреблении. Казалось, впитали они в себя адский пламень Асмодеевой черной мессы.
Недоуменно взял я один из них в руки и, смотря на него, задумался. Постепенно меня захватили, нарастая, новые ощущения. Почувствовал прилив каких-то новых чувств, и взор мой, изощренный, как-то свободно проникал сквозь предметы, уносился беспредельно.
В какой– то синеющей дымке, – впрочем, даже не в дымке и не на стене, я не знаю, как передать способ моего нового чувствования, – увидел я девушку, разметавшуюся на своей постели. В беспокойном сне сбросила она от себя одеяло и в нагой своей красоте лежала передо мной. Волнение охватило меня. Ее лицо не было мне видно, и страстное желание видеть его наполнило мою душу. Как бы подчиняясь ему, она с каким-то мучением повернулась ко мне. Как прекрасно было это лицо! Как прекрасна была ее обнаженная грудь! Мне захотелось, чтобы она открыла свои глаза, и глаза ее открылись. Девушка проснулась. В ужасе села на кровати. Я захотел, чтобы она встала, и она встала с мучительным напряжением. Рубашка скатилась к ее ногам, и мгновенье она стояла передо мной, как Киприда, рождающаяся из пены морской. Затем опомнилась, накинула рубашку и в ужасе опустилась перед киотом икон, где теплилась лампада… Спасов лик строго глянул мне в душу, и видение потускнело.
Я выронил из руки трехугольник и долго-долго смотрел перед собою в пустоту… Прошел час, может быть, другой… Дрова догорали в камине. Я понемногу пришел в себя и положил на ладонь другой платиновый трехугольник и чуть не выронил его в ужасе… Стены расступились, и увидел я Жанету Леклерк, актрису Паласс-театра, за которой ухаживал я тщетно. Она полулежала на софе, и около софы на коленях стоял офицер шотландской гвардии. Беспорядок одежд, нежность поз не оставляла сомнения в любовности их свидания. Жанета, вся трепеща в истоме, тянула к нему свои обнаженные руки и полуоткрытые губы. Всем напряжением воли я велел ей отпрянуть. Но не было моей власти над ней, и она обняла своими обнаженными руками седеющую голову полковника. Бешенство овладело мною, и я велел ему встать. Покорный, он поднялся с колен, отстранив объятия Жанеты. Я понял, что владею его душой; Жанета, с неведомым для меня в женщине бесстыдством, прильнула к нему своим телом, и я, до краев преисполненный бешенством и чувствуя, что владею каждым мускулом шотландца, схватил его руками ее горло и неистово впился в него, пока судороги не охватили ее тела.