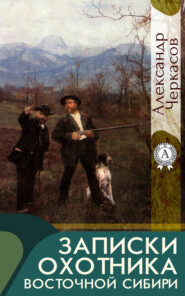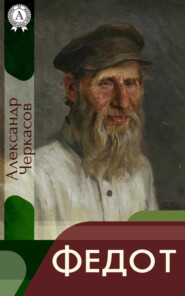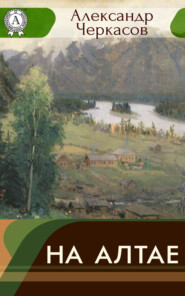По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из записок сибирского охотника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Худо мне, барин; шибко худо! Сам – то горю, то знобит, а сердце – как льдина; да и бьется как голубь, точно выпрыгнуть норовит из-за пазухи. Нет ли горяченького чайку, дай, пожалуйста.
Медный чайник давно уже кипел, я живо заварил чай, налил в деревянную походную чашку и подал старику, но он был уже так слаб, что лег на потник и его начало трясти. Маслов подложил ему под голову мою подушку, накрыл старой шубенкой, а я старался напоить его чаем. Но старика стошнило; он несколько успокоился и немного уснул, но сон был тревожный и с бредом.
Со мной была небольшая аптечка, но я растерялся и не мог сообразить болезни, а потому и не знал, что дать больному.
Разбираясь в аптечке, я нашел хину, слабительное, рвотное – как вдруг старик что-то забормотал, бойко вскочил на ноги и грубо закричал: «Давай спирту!»
Как ни старался я уговорить Кудрявцева, но он не понимал моих слов и требовал спирта. Что было делать с таким пациентом, – я положительно недоумевал. Спирт хоть и был в большой дорожной лаговке, но я боялся дать старику такого снадобья и едва уговорил его лечь. Тогда он пришел в себя и стал объясняться толково. Он жаловался, кроме того, на то, что у него сильно болит голова и что его крепит. Я тотчас дал ему английской соли, а к голове привязал компресс. Надо заметить, что в то время, когда мы возились со стариком, его сердитый Серко бросался на цепочке, грыз ее, лаял и готов был нас растерзать, так что поневоле приходилось оглядываться, но прикрепить его не было возможности, и мы боялись, чтоб он не оторвался. Старик уснул и пропотел. Я уже радовался такому исходу и принялся хозяйничать с помощью Маслова, я отвязал лошадей, спутал и отпустил на траву. Видя, что старик уснул, мы принялись ужинать и, чтоб задобрить сердитого пса, бросили ему косточки, но он не съел ни одной и злобно зарычал.
Не успели мы закусить, как проснулся старик, снова вскочил на ноги и снова стал грозно требовать спирту.
Так как никакие увещевания не помогали, то пришлось воевать, и мы силой положили старика и хотели связать, но он опять пришел в себя и попросил напиться. Затем лег поближе к огню и стал говорить, сначала путаясь и извиняясь в своих поступках, что он узнал из наших слов, а потом начал просить меня о том, чтоб я немедленно ехал на Карийский промысел и послал оттуда лекаря или фельдшера, так как он чувствует, что ему вожаком нашим не быть, а обратно не выехать.
Дело принимало критический характер, и Маслов был бледен как полотно.
Кудрявцев, придя в совершенное сознание, настаивал на своей просьбе.
Было уже за полночь, и тихая, свежая погода предвещала хорошее утро. Мы успокоились и толковали со стариком – что делать?
– Слушай-ка, барин, – упрашивал Кудрявцев, – поезжай, пожалуйста, на Кару, я тебе расскажу, как отсюда выехать, ты поймешь и доедешь, а Маслов заблудится. Он в тайге небывалый, да и разум не тот, пожалуй, не поймет дорогу и, храни бог, сам погинет (погибнет). Он останется со мной, а ты как приедешь, посылай скорее фершала; тебя знают и послушают, а я вот расскажу тебе, как доехать до места.
И старик так отчетливо принялся рассказывать новую дорогу, чтоб ближе выехать прямо на Верхнекарийский промысел, что невольно каждое его слово врезывалось в память. Я успокоил его тем, что, как только начнет светать, я оседлаю коня и отправлюсь, а что ночью по неизвестному пути, пожалуй, собьюсь и заблужусь сам. Это успокоило старика, и он опять уснул, хотя и тяжелым, нервным сном.
Во все время этого рассказа Маслов сидел как приговоренный к смерти и трясся как осиновый лист.
Но заметя, что старик уснул, он нервно заплакал и стал меня упрашивать, чтоб я не ездил один, а взял его с собой и что он один со стариком ни за что не останется.
Сколько мне стоило труда убедить Маслова, что этого сделать невозможно и ехать за помощью необходимо. Оставить же Кудрявцева одного, больного и с такими припадками – немыслимо и грешно. Он может убежать в лес, затянуться в чащу, упасть в огнище, застрелиться, наконец утонуть в речке и прочее, словом, собрал все, что приходило в голову и что может случиться с несчастным больным. Но Маслов не хотел слушать и твердо заявил, что он не останется. Тогда я предложил ехать на Кару ему, так как он слышал, как отсюда выехать, а что я останусь здесь. Но не помогало и это, – Маслов был непоколебим в своем решении. Я уже стал стращать его тем, что если мы уедем оба, а со стариком случится какая-либо беда, то все равно нас не оправдает за это закон, а совесть будет мучить до гроба. Тут Маслов начал убеждаться, но говорил, что он лучше бы поехал, но ему не выехать по рассказу, что он заблудится и погибнет в тайге, не принеся никакой пользы и нам.
Лучше всего подействовало на Маслова то обстоятельство, что больной долго спал без особых проявлений болезни, а я стал убеждать его тем, что бы он сказал и подумал о товарищах, если б такой недуг приключился с ним самим? Что бы было тогда с ним, если б я с Кудрявцевым оставили его одного, больного, среди тайги без всякой помощи? Видя податливость Маслова, я, наконец, решительно сказал ему так: «Слушай-ка, Маслов, ты сам теперь видишь, что кому-нибудь из нас ехать необходимо, а потому положимся на волю божию и нашу судьбу; давай бросим жребий. Кому выпадет, тому и ехать. Согласен?»
– Нет, нет! Ваше благородие, – почти закричал Маслов. – Уж, если так угодно господу, то поезжайте вы, а я останусь; да и теперь, как видно, дедушке получше, а мне не выехать.
Судьба ли, воля ли господа решила этот приговор, только дело было покончено, и – увы! – это решение было преддверием несчастья Маслова, а быть может, и старика.
Коротки майские ночи, так что не успели мы соснуть, хоть на один глаз, как черкнула утренняя заря, а с нею защебетали кой-где по лесной чаще и мелкие птички. Проснулся и старик; но пробуждение его было болезненно, тяжело. Он едва мог проговорить: «Дайте испить; во рту все посохло, губы сгорели».
Мы дали напиться, и я спросил: «Ну что, дедушка, как ты себя чувствуешь?»
– Плохо, барин, шибко плохо, – отвечал Кудрявцев, и с этим ответом он почувствовал действие английской соли. Мы помогли старику, и я душевно порадовался. Ему действительно сделалось получше, и он просил меня пустить ему кровь, зная, что у меня есть с собой ланцет.
Долго не думая, я тотчас достал инструмент и посадил старика на потник, спиною к дереву. Маслов придержал больного, помог обнажить левую руку и что-то набожно шептал. Я снял с себя простой крестьянский чулок, растер руку больного, перевязал поясным ремешком выше локтя и принялся за операцию. Но – увы! – как я ни бился, а крови пустить не мог. Из ранки ланцета показывалась не кровь, а какая-то черная как деготь жидкость; тотчас сгущалась, засыхала и не бежала, как это бывает при кровопускании. То же повторилось и с правой рукой. Словом, как мы ни бились, уже вместе с Масловым, но ничего у нас не вышло, – то ли от нашей неопытности в фельдшерском искусстве, то ли болезнь слишком усилилась, и мы опоздали. Судить об этом не могу и предоставляю на суд читателей, быть может, и доктора. Я утешаю себя тем, что я по своему разуму сделал все, что мог, и совесть моя спокойна.
Больной вообще ужасно ослабел, соболезновал, что мы не могли вскрыть крови и, в свою очередь, утешал нас тем, что «это ничего; это (то есть болезнь) со мной случалось уже не один раз, но бог проносил. Однажды этак-то меня взяло, на промыслу же (на охоте), одного, как есть одного, а к тому же непогодь была, – да я наболтал соли с водой, выпил, вот и полегче стало, а то тоже думал, что у смерти близко, ей оборки топчу», – говорил старик, и – диво! – узнаю тебя, русский серый мужичок! – еще ты пошутил с нами последним словом!..
Вот стало светать. Мы вскипятили чайник, выпили по чашке, но старик отказался и снова просил меня, чтоб немедленно ехал на Кару и послал оттуда фельдшера.
Я успокоил Кудрявцева, что сейчас поймаю коня и поеду, но просил его рассказать еще раз, как выехать из тайги, желая этим проверить и старика, и себя. Кудрявцев сел и снова повторил свой рассказ с такою точностью и наглядностью, что я удивился и вместе с тем убедился в том, что он рассказывает в полной памяти в здравом уме; это обрадовало и успокоило нас, почему Маслов стал повеселее, ибо он видел, что старик вторично передал путь выезда почти слово в слово.
Долго не думая, я тотчас поймал коня, оседлал, взял винтовку, помолился богу и сказал Кудрявцеву: «Ну, дедушка, оставайся с богом; будь здоров, а теперь пока простимся, да благословляй меня в путь, чтоб скорее выехать».
Мы поцеловались. У нас обоих навернулись слезы. Старик крепко, сколько мог, обнял меня за шею, еще раз поцеловал и, благословляя, сказал: «Бог тебя благословит, барин, – путь тебе дорогой. Коль помру, то не поминай лихом да помолись по душе…» Дальше я уже не слыхал, что бормотал Кудрявцев, потому что, поцеловавшись с Масловым, я живо сел на коня, перекрестился и поехал. Слезы меня душили, сердце словно замерло, и я худо видел, куда ехать.
Таежный мой конь, Савраско, обладал замечательно поспешной и покойной иноходной поступью, так что, отъехав версты три, – я несколько пришел в себя от грустных впечатлений прощания и тогда только заметил, что весеннее солнце осветило уже верхушки гор и точно брызнуло золотистыми лучами по росистой зелени, которая каймила верхние окраины, тогда как ниже этой линии кусты и деревья казались темными и точно недовольными тем, что они растут ниже своих собратов. В тайге было так тихо, что я только слышал торопливый «потоп»; коня и журчание близ текущей речки Топаки.
Надо удивляться той способности старика, с какой он передал мне весь новый для меня путь по тайге на расстоянии почти 50 верст. Заметьте путь без дороги, – их в тайге не существует, а есть более или менее тропы, которые пересекают долины и горы во всевозможных направлениях, взбираются на крутые хребты, теряются на каменистых россыпях, сползают под крутые утесы, лепятся по карнизам и точно перепрыгивают чрез речки…
Помня рассказ Кудрявцева, я редко задумывался, потому что мне попадался на глаза непременно тот предмет, на который указывал старик, – либо выдавшийся утес, либо с корнем вывороченное дерево, либо громом разбитая лесина, либо озерко, или локоть выдавшегося кривляка речки, – словом, я знал, где мне поворотить направо или налево, где переехать брод и так далее.
Так я ехал уже несколько часов, ни разу не останавливался, курил на езде, а об закуске и не думал. Душевная истома отняла весь аппетит и даже жажду, несмотря на то, что у меня сохло во рту и все тело горело. В одном месте я соблазнился, увидав бегающих на току косачей. Я слез с коня, выстрелил из винтовки, но промахнулся, и этот промах точно подсказал мне, что теперь не до охоты, и я, заскочив на Савраска, бойко похлынял далее. Проехав уже более половины, я вдруг в кустах услышал шелест и треск. Меня передернуло, и я думал, что не медведь ли тут разгуливает; но оказалось, что шли тропинкой двое беглых, которые, заметив меня, быстро своротили в чащу, а когда я поравнялся с ними, то один из них вышел на дорожку и, сняв шапку, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие!»
Меня ужасно поразило то, как этот человек мог узнать меня, так как я был одет уж вовсе не по-благородному. На мне были плисовые шаровары, черная крестьянская шинель (армяк), на ногах простые кунгурские сапоги, а на голове козья охотничья шапочка (орогда, как здесь называют). За плечами же висела сибирская с сошками винтовка. Видимо, что эти люди бежали с Карийских золотых промыслов, на которых я уже не служил около четырех лет.
– Здравствуй, брат, – отвечал я. – Как ты меня знаешь?
– Гм… – сказал бродяга, – знаю; да и кто вас здесь не знает?
– Куда же пошел? Где же твой товарищ?
– Пошел я, ваше благородие, погулять: в деревню Бори пробираюсь, а товарищ, вишь, испугался и утянулся в чащу, – сказал беглый.
– Так в Бори, брат, не здесь ходят, – возразил я.
– Сам знаю, что не здесь, – говорил он, – но там на тракту имают, вот и пошли обходом.
Мы попрощались, и я поехал вперед, а здоровенный Путник вскинул на плечо увесистую дубину, свистнул товарища и, что-то размахивая рукой, потянулся тропинкой.
Проводив глазами путника, я невольно подумал: «Ну, этот видал виды – и должно быть из военных».
Часу в четвертом пополудни я благополучно доехал до Верхнекарийского золотого промысла, на котором был управителем, в то время, мой сотоварищ г. Тир, а поэтому я уже рысью забежал прямо к нему. Немедленно объяснил, в чем дело, и просил его помочь моему горю. Спасибо Эрасту Осиповичу, он тотчас послал за фельдшером, велел приготовить лошадей и позвать ваграньщика (плавильщики ваграночной печи) Выходцева, который был охотник и знал ту местность, где остались Кудрявцев и Маслов. Пока собирались люди, я успел закусить и коротенько рассказал Тиру все свое приключение.
Не прошло и 2-х часов, как добрые люди, выслушав, в чем дело, согласились ехать и, попрощавшись по-походному, явились за приказанием. Хотели им дать еще человека, конюха, бывавшего в вершинах речки Топаки, но Выходцев уговорил нас, что это лишнее и что он сам отлично знает местность.
Снарядив фельдшера (забыл его фамилию) всем необходимым, а Выходцева достаточной провизией на несколько дней, мы просили их ехать немедленно и поскорее, ночевать только в крайности, а достигнув цели, принять все меры возможной помощи и стараться вывезти Кудрявцева в качалке, для чего и дан был запасный конь. Качалка делается так: засёдлываются лошади, ставятся одна за другой на расстоянии 2-х или 3-х аршин; к их седлам прикрепляются с боков две жерди, а на них, посредине, между лошадьми, устраивается переплет сиденьем или лежанкой, куда и помещается больной. На переднего коня садится человек, подбирает повод заднего коня – и таким образом можно привезти кого угодно по самой отчаянной тайге. Конечно, везде требуется навык, сноровка и главное – желание. В хорошо приспособленных качалках, даже с болком или верхом от дождя и солнца, многие дамы, шутя, ездят сотни верст по тайге и находят такой способ передвижения довольно сносным и даже удобным. Тут главная суть смирные и сноровистые лошади.
Часу в 7-м по вечеру наша экспедиция благополучно отправилась в путь, а я потихоньку, разбитый душой и телом, потянулся верхом на Нижнекарийский золотой промысел, домой.
Надо было видеть и радость и испуг жены, которая встретила меня на дворе и не знала, к чему отнести мое скорое возвращение из тайги.
Почти всю ночь я не мог уснуть от наплыва тревожных мыслей и едва прокоротал следующий день, 11 мая, собираясь ехать к вечеру на Верхний промысел, куда могла возвратиться наша экспедиция. Как вдруг, уже после обеда, разнесся слух, а вслед за этим и «прибежал нарочный» от г. Тира, что Маслов «выбежал» из тайги без ума и потому г. Тир просит поскорее приехать доктора, который жил на Нижнем промысле, отстоящем от Верхнего в 9 верстах. Записка была написана второпях, коротенько, и я не понимал сути дела.
Живо оседлали мне коня, и я полетел на Верхний промысел.
Оказалось, что наша экспедиция, состоящая из Выходцева и фельдшера, ночью сбилась с пути, заблудилась, не доехала до места несчастья и на измученных лошадях 11 числа возвратилась на Верхнюю Кару, а несчастный Маслов, живший на этом же промысле, действительно «выбежал» домой, в полном смысле этого слова, и потеряв всякое сознание.
Когда я зашел в избенку к Маслову, то этот несчастный человек лежал на полу, на потнике (войлок) с окровавленными ногами, не узнавал нас и только бессознательно мычал и метался, так что его держали.
Медицинская помощь была необходима, и, слава богу, скоро приехал доктор и принял все меры, чтоб привести в чувство бедного страдальца. Но это последовало не вдруг, и я, прождав до позднего вечера, не мог узнать всей сути второго несчастья. Все мы только догадывались, в чем дело, потому что Серко Кудрявцева прибежал с Масловым и был у него на дворе. Словом, 11 числа я не узнал, что было нужно, и уже поздно вечером, с еще более разбитой душой воротился домой.