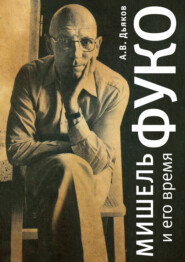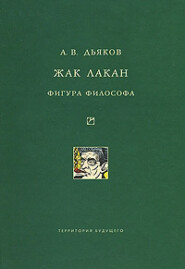По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философская традиция во Франции. Классический век и его самосознание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, мы подошли к дилемме: с одной стороны, историк философии не может заниматься механическим накоплением информации и, чтобы не быть ею раздавленным, должен ее каким-то образом систематизировать, с другой – систематизация всегда несет в себе риск не увидеть ничего, кроме самой систематизации. Идти на какие-то полумеры – значит не достичь успеха ни в одном, ни в другом. Приходится выбирать меньшее из зол, а меньшим нам представляется систематизация. Остается только избрать какое-то общее основание и определиться с методическим подходом. Впрочем, коль скоро нам приходится выбирать одно из возможных оснований и коль скоро делаем мы это скрепя сердце и лишь по необходимости, это значит, что мы оказались в ситуации, где, во-первых, одно основание стоит любого другого, а во-вторых, мы не полагаемся всецело ни на одно из них. В ситуации, которую Ж.-Ф. Лиотар назвал постмодерном. Не стоит делать вид, будто это не так. Наша эпоха действительно непохожа ни на одну из предшествовавших, и в то же время имеет много общего с каждой из них. Единственное, чего нам недостает, это современности. Модерна.
О постмодерне сказано уже так много, что нам нет нужды что-либо добавлять. У нас своя проблема: как заниматься историей философии в этой ситуации, да и возможна ли сегодня история философии как таковая? Теперь уже едва ли приходится уповать на то, что «в галерее мировых ландшафтов усматривается объемлющее, которое в качестве мира есть само бытие»[30 - Там же. С. 183.]. Мы оказались в точке, из которой это объемлющее не просматривается. Мы больше не видим единого, а только единичное, частное, сингулярное, причем в колоссальных количествах. На месте космоса воцарился хаос. Таково наше сегодняшнее мироощущение: мы видим себя затерявшимися в безбрежных просторах исторического пространства и времени.
Еще столетие назад Марсель Пруст описывал пробуждающееся сознание следующим образом:
Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры. Пробуждаясь, он инстинктивно сверяется с ними, мгновенно в них вычитывает, в каком месте земного шара он находится, сколько времени прошло до его пробуждения, однако ряды их могут смешаться, расстроиться[31 - Пруст М. В поисках утраченного времени: По направлению к Свану / пер. Н. М. Любимова. М.: Крус, 1992. С. 14.].
Именно это и произошло с нами: ряды времен и миров смешались, порвалась дней связующая нить, и теперь мы не знаем, куда нам просыпаться. Собственно, этому и посвящена наша книга – вопросу о том, как философам минувших веков удавалось пробуждаться в своем времени и что произошло с нашим. Таким образом, ситуация постмодерна имеет свои выгоды: это своего рода зазор между исторически существовавшими (а вернее сказать: существующими) дискурсами, и пребывание в этом зазоре позволяет увидеть разглядеть их очертания, не навязывая им свою собственную форму.
Быть может, тем самым у нас появляется надежда не изобразить философов прошлого нашими современниками, в меру наивными, но дающими надежду на конечное торжество истины, произошедшее наконец в наше время. Такая вульгарная ретроспекция вечно преследует историю философии, заставляя в других эпохах находить черты своей собственной и задним числом вписывать их в телеологическую историю. Впрочем, так называемый «постмодерн» – это ведь тоже не что иное, как указание на конец истории. Конец дисперсный и не похожий на те, что предрекали восходящие к христианской эсхатологии схемы, и тем не менее конец. А идея конца истории – это всегда тупик, обращение дискурса на самого себя. Мы попытаемся избежать этого, представляя дело таким образом, словно бы никогда не было ни начала, ни конца.
Говоря об истории философии, нельзя не говорить об истории вообще. Мы уже сказали о том, сколь пагубно объяснение идей через контекст их возникновения. Однако еще более пагубным было бы игнорирование событийной истории, частью которой является и история идей. Поэтому всякая история западной философии должна быть вписана в историю западной цивилизации. И здесь историка философии подстерегает еще одна опасность: объяснять историю цивилизации через историю идей. Дело в том, что историю цивилизации чрезвычайно удобно объяснять через историю идей; быть может, это даже единственная возможность объяснения в данной области[32 - «Периодизация всегда имеет тенденцию быть привязанной к интеллектуальной истории, – замечает П. Шоню, – скорее всего потому, что команды отдает разум» (Шоню П. Цивилизация Просвещения / пер. И. Иткина, М. Гистер. Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ, 2008. С. 41).]. Однако одно не должно подменять другое: в обоих случаях мы впадем в грубый редукционизм и пойдем на поводу у оседлавшей нас дисциплины вместо того, чтобы попытаться оседлать ее или хотя бы воспользоваться предлагаемыми ею благами.
«…Историк, – заметил однажды А. Койре, – всегда должен принимать в расчет мнение современников, даже если потомство отвергло их суждение»[33 - Koyrе A. Le savant // Pierre Gassendi. 1592–1655. Sa vie et son Cuvre. Ouvrage publiе avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. P.: Albin Michel, 1955. P. 61.]. Общеизвестно, что мыслитель, весьма популярный и значимый для своего времени, по прошествии лет может оказаться в забвении; потомки могут счесть его незначительным и пустым, хотя в свою эпоху он представлялся светочем разума. И наоборот, автор, почти незамеченный своими современниками, для потомков может оказаться опередившим свое время гением и провозвестником нового века. Дело в том, что во французской философии, как и во всякой другой, всегда существовало то, что с определенной степенью упрощения можно назвать модой. На этом сходятся едва ли не все исследователи галльской мысли. Так, Р. Перну в своей книге об Абеляре писала:
У каждой эпохи есть свой «конек» – излюбленное увлечение, излюбленная тема дискуссий. В наше время великим человеком может считаться тот, кто осуществляет исследование в сфере генетики или в области атомной энергии, но всего лишь несколько лет назад мощный поток увлекал множество молодых людей к идеям экзистенциализма, и живейший интерес заставлял их вести споры по поводу бытия и небытия, сущности и существования. Можно смело утверждать, что во все времена движение человеческой мысли обретало некое доминирующее, главное направление, которое было способно оказать огромное воздействие на целое поколение, и в этом XII в. ничем не отличался от XX в.[34 - Перну Р. Элоиза и Абеляр / пер. Ю. Розенберг. М.: Молодая Гвардия, 2005. С. 15.]
Проследить такие доминирующие направления в истории французской философии было бы чрезвычайно интересно, и мы постараемся это сделать в настоящей работе. Но не менее интересно попытаться взглянуть на историю самосознания той философии, что стоит за всякой интеллектуальной модой. И вместе с тем, помимо моды, придающей скоропреходящий блеск фигуре, по тем или иным причинам привлекшей внимание своих современников, существует еще благородная патина старины, придающая достоинство тем, кто при жизни отнюдь не блистал. «Время, – заметил Вольтер, – которое одно только создает людям славу, в конце концов делает почтенными даже их недостатки»[35 - Вольтер. Философские сочинения / пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. М.: Наука, 1988. С. 160.]. Так думал не один Вольтер. Его друг Кондильяк говорил, что у этого процесса есть и оборотная сторона: «…философские взгляды подвержены той же участи, что и явления моды: новизна вызывает увлечения ими, время же ввергает их в пучину забвения; можно было бы сказать, что большая или меньшая давность взглядов является мерой их власти над умами»[36 - Кондильяк Э. Б. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 402–403.].
Вопрос о моде мы затронули еще и потому, что, в силу избранного предмета исследования, нам придется зачастую пренебрегать как прежней, так и нынешней модой. Ведь позитивистская установка требует от нас фиксировать лишь то, что действительно было сказано, а не придавать то или иное значение тому, что было понято или расслышано в том или ином смысле post factum. Поэтому одни фигуры будут отходить в тень, а другие, напротив, выступать на свет. К примеру, чрезвычайно важная для всего французского Просвещения фигура Шарля Луи Монтескьё у нас не получит освещения, пропорционального ее значимости для историко-философского процесса в целом. А фигура Пьера Гассенди, напротив, окажется для нас едва ли не столь же важной, какой она представлялась в XVII в., несмотря на то, что теперь этого автора принято отодвигать в тень.
Оборотной стороной медали является традиция – устойчивое воспроизводство доктрин или идей, освященное именем-эпонимом этих доктрин и многолетним их повторением. Традиция может воспроизводить все что угодно; способствуя сохранению и передаче плодотворных идей, она может выступать препятствием на пути прогресса и упорно сохранять самые нелепые заблуждения. И недаром тот же желчный Кондильяк замечал, что «предрассудки господствуют среди всех народов; подражание освящает их из поколения в поколение, и даже история философии часто являет собой лишь цепь заблуждений, в которые впадали из-за них философы»[37 - Кондильяк Э. Б. Сочинения. Т. 1. С. 454.]. Действительно, обратившись к истории французской философии, мы сразу же увидим давление схоластической традиции и почувствуем ее веками копившуюся мощь. Но, по счастью, история философии содержит не только воспроизводство предрассудков, но и еще и борьбу с ними, что и делает ее изучение занятием увлекательным.
П. Шоню предложил считать началом классической Европы «неустойчивое и противоречивое плато мировой конъюнктуры между циклическими кризисами 1620 и 1640 гг.»[38 - Шоню П. Цивилизация классической Европы / пер. В. Бабинцева. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 12.]. Принимая этот взгляд на историю новой Европы, мы принимаем идею Ф. Броделя об «этажах» истории. Другими словами, историческое развитие должно представать нам не в виде спирали, а в виде лестницы, всякая ступень которой представляет собой более или менее однородное состояние, растянутое в хронологическом направлении.
Историческая спираль – не более чем образ, принятый диалектикой более позднего времени ради удобства проецирования собственных теорий на исторический процесс, понимаемый сугубо телеологически. В реальности история движется неравномерно, с остановками и отступлениями. Кроме того, в разных краях и на разных общественных уровнях история может двигаться с разной скоростью. Громкие революции в общественном сознании, грохот рушащихся тысячелетних доктрин, страсти, кипящие на парижских улицах, могут быть совершенно не слышны в деревушках, спрятавшихся в складках Пиренеев или уместившихся на кромке океанского прибоя. Столетия Ренессанса и Просвещения обошли стороной античный уклад селений Лангедока. А то, что их жители не занимались ни философией, ни математикой, не устраняет их из истории.
Подход Ф. Броделя и П. Шоню представляется нам более оправданным, позволяя разглядеть в истории не движение к заданным целям, а ряд устойчивых состояний, на протяжении существования которых в интеллектуальной истории Запада можно проследить функционирование тех или иных форм дискурса или развитие тех или иных доктрин. История не обязана следовать заданным схемам, а существование единого смысла и направления человеческой истории так и остается спорным вопросом. Вернее, результатом теоретических предпочтений. Всякая уверенность в знании смысла истории может быть лишь заблуждением или политической уловкой. Для исследователя это не годится.
Кроме того, следует учитывать еще один момент, казалось бы, лежащий на поверхности, но неизменно отбрасываемый исследователями, опирающимися на те или иные схемы исторического развития. Дело в том, что человеческая культура всегда представляет собой здание по меньшей мере из двух этажей, на каждом из которых историческое время может протекать по-своему. Упрощенная схема «базис/надстройка» не объясняет разрыва между двумя этажами, который порой может быть весьма существенным. На наш взгляд, стоит говорить не о базисе и надстройке, а скорее об интеллектуальной и материальной цивилизациях. Для Нового времени это особенно существенно, ведь материальная цивилизация этого времени мало отличается от той, что была характерна для позднего Средневековья, а в средиземноморском регионе – от античной. В то же время, интеллектуальная цивилизация XVII–XVIII вв. переживает революционные перемены и начинает оказывать определяющее влияние на материальное производство.
Наконец, настало время сказать об источниках и о принципах их отбора. Гегель в своих «Лекциях по истории философии» проницательно заметил, что история философии отличается от политической истории тем, что в этой последней источниками выступают историографы, облекшие некогда бывшие деяния в форму истории, тогда как в истории философии самые деяния всегда находятся перед взором исследователя, ибо этими деяниями являются философские произведения[39 - Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. С. 155.]. Такое положение дел ставит историка философии в весьма затруднительное положение: поскольку он, будучи добросовестным историком, не может ничего оставить без внимания, он должен прочесть весь корпус текстов, составляющий его исследовательский объект. Но, поскольку продолжительность человеческой жизни ограниченна, задача это заведомо невыполнимая. А значит, приходится различать тексты, которые необходимо внимательно прочесть, те, с которыми достаточно бегло познакомиться, и те, в отношении которых можно ограничиться суждениями прежних историков философии, которые их уже прочли.
При таком отборе, конечно же, первостепенное значение приобретают тексты, оказавшие наибольшее влияние на современников и потомков, став ключевыми моментами для хода истории философии. Выбрать такие тексты не составляет труда. Сложнее обстоит дело с текстами, вызвавшими значительный резонанс в свою эпоху, но впоследствии забытыми. Потомки могут провозгласить пустым и ненужным сочинение того, кто некогда блистал. Порой такое суждение бывает справедливым, а порой нет: неблагодарные потомки могут попросту забыть о том, кому они обязаны своим интеллектуальным состоянием. Поэтому не стоит безоговорочно доверять суждениям тех, кто пришел позже, и внимательно прислушиваться к тому, о чем говорили современники. Как похвалы, так и яростная полемика должны служить достаточным основанием для внимательного знакомства с их предметом. И наконец, как это ни прискорбно, приходится смириться с тем обстоятельством, что историк философии всегда рискует упустить из вида важный текст, оставшийся незамеченным ни современниками, ни потомками. Открыть его заново можно лишь случайно, при большом везении, ибо читать все подряд не только невозможно, но, может быть, даже вредно.
Все это касается текстов первого уровня важности, которые Гегель назвал историческими деяниями философов. На втором уровне располагаются тексты историографические, т. е. сочинения историков философии, которые в своей совокупности как раз и определяют отбор текстов, для своего времени – более или менее непосредственно, для нашей эпохи – опосредованно. Таким образом, эти труды также имеют для нас весьма значительный интерес. Зачастую они однообразны, а многие из них представляют собой попросту компиляции, и тем не менее, историк философии никак не может обойтись без знакомства с ними, хотя бы самого беглого.
И конечно же, нам никак не обойтись без обширнейшего корпуса исследовательских работ наших современников. Здесь мы, опять-таки, оказываемся в области переизбытка текстов, прочесть которые нечего и надеяться. И тем не менее, подобно герою из Притчи Ф. М. Достоевского, историку философии приходится, посидев для приличия перед безнадежно бесконечной дорогой, двинуться по ней и постараться пройти как можно больше.
Глава 1. Новое время начинается
Нам книги древние порукой:
Обязаны своей наукой
Мы Греции, сомнений нет;
Оттуда воссиял нам свет.
Велит признать нам справедливость
За ней ученость и учтивость,
Которые воспринял Рим
И был весьма привержен к ним.
В своем благом соединеньи
Они нашли распространенье
У нас во Франции теперь.
Кретьен де Труа. Клижес
XVI в. был веком абсолютизма. Франция сплотилась вокруг правящей династии и, несмотря на сохранившееся различие между Севером и Югом, ощущала свое единство. Однако это тяжело давшееся политическое единство не означало единства гражданского. Столетие ознаменовалось частыми народными волнениями, а в 1559–1594 гг. по стране прокатилась серия религиозных («гугенотских») войн, за которыми следовал неизбежный экономический упадок. Ф. Эрланже описывает угрозу раскола Франции следующим образом: «Злоупотребления Римской Церкви, косность преподавателей-теологов, живущих в замкнутом мире, изобретение книгопечатания, распространение свободомыслия, взаимная нетерпимость, опустошения, вызванные бесчисленными войнами и вторжениями, чересчур поспешный мир, экономический кризис и гибельная налоговая политика, недостатки и слабости государя, доверившего свой скипетр горстке фаворитов и возвысившего одни семьи феодалов в противовес другим, все это способствовало тому, чтобы в самом централизованном королевстве Запада сложилось положение, еще недавно немыслимое. Еще никогда со времен Жанны д'Арк единство Франции не оказывалось настолько под угрозой»[40 - Эрланже Ф. Резня в ночь на святого Варфоломея / пер. Т. В. Усовой. СПб.: Евразия, 2002. С. 41.]. Угроза государственному единству была весьма ощутимой, но в жизни отдельных людей, должно быть, еще ощутимей было чувство постоянной угрозы их жизни, угрозы, исходящей от враждебной армии, от кучки солдат-дезертиров, от шатающихся по дорогам разбойников и т. п. Монтень в своих «Опытах» замечает: «Я тысячу раз ложился спать у себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и умертвят, и единственное, о чем я молил судьбу, так это о том, чтобы все произошло быстро и без мучений»[41 - Монтень М. Опыты: В 3 т. Т. 3 / пер. А. С. Бобовича. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 238.]. А ведь он жил в своем замке, пусть и слабо укрепленном. Что же говорить о простых горожанах или фермерах? «Гражданские войны, – продолжает Монтень, – хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно настороже»[42 - Там же. С. 239.].
Итальянские войны, начавшиеся еще в 1494 г. и закончившиеся лишь в 1559 г., не отдали Италию в руки французов, однако позволили им заключить стратегически важный альянс с Турцией и окончательно вытеснить с континента англичан. Наиболее значимые последствия итальянских походов лежали, быть может, не в политической, а в культурной плоскости (хотя и политически-идеологический аспект не стоит сбрасывать со счетов, ведь французские войска впервые со времен крестовых походов переступили рубежи страны, вмешавшись в общеевропейский политический расклад). Ведь французы свели тесное знакомство с итальянским гуманизмом.
Италия была страной Возрождения, откуда распространялась новая культура и новый взгляд на человека. Без преувеличения можно сказать, что именно в северо-итальянских городах началось движение, которому было суждено совершенно изменить все еще варварскую Европу. «Впрочем, – замечает А. Моруа, – новые идеи медленно пересекают Альпы, и результаты их воздействия различны в Германии, в Англии и во Франции. В Италии гуманизм вернул элиту к язычеству. Франция подвергалась сильным потрясениям в течение целого века, она не подчинилась ни пуританству, ни язычеству, а только обогатилась и оплодотворилась этими чуждыми влияниями и в XVII в. вышла на свою собственную дорогу. Конечный взрыв новых идей осуществился только в XVIII в. И Французская революция – это дочь Возрождения»[43 - Моруа А. История Франции. СПб.: Гуманитарная академия, 2008. С. 146.].
Если с юга во Францию вступал Ренессанс, то с востока, из немецких и гельветических земель, на нее надвигалась Реформация. В 1541 г. «Христианское установление» Жана Кальвина было переведено на французский язык. Кальвинизм широко распространился на юге, в определенной мере став продолжением южного свободомыслия, на исходе Средневековья выразившегося в популярности альбигойской доктрины, тогда как на севере его исповедовали преимущественно интеллектуалы – класс во все времена немногочисленный. Однако и на Севере стали появляться образованные епископы, находившиеся под влиянием идей итальянского гуманизма и читавший не Вульгату, а оригинальный текст Библии.
Своя собственная Реформация началась во Франции раньше Лютеровой: в 1508 г. профессор Сорбонны Лефевр д'Этапль (ок. 1450–1536) публично призвал читать оригинальные тексты и вскоре издал французский перевод Библии. Он считал, что спасение достигается через веру, а не через заслуги, осуждал целибат священников и культ святых. Франциск I покровительствовал ему, поэтому д'Этапль не только не отправился на костер, но и приобрел значительное влияние на умы. При королевском дворе даже появилась мода распевать псалмы по-французски.
При этом в университетах по-прежнему господствовал томизм, опиравшийся на Аристотеля и, несмотря на знаменитое учение Аквината о гармонии веры и разума, смешивавший теологию и философию. Как заметил А. Моруа, «в университетах для поддержания незыблемости доктрины достаточно было страха перед инквизицией»[44 - Там же. С. 173.]. Парижский университет, представлявший собой что-то вроде самостоятельной республики, организованной по федеративному принципу и состоявшей из многочисленных коллежей, был всецело предан папству и схоластическому методу и непримирим к новаторству. Многие его преподаватели подбивали парижских переписчиков выдвинуть против их конкурентов-типографов обвинение в колдовстве. 15 апреля 1521 г. факультет теологии признал учение Лютера еретическим. А после осуждения Лютера Сорбонна осудила и д'Этапля. В 1543 г. Сорбонна призвала всех профессоров подписать «догмат веры», а тех, кто отказался это сделать, отправили на костер. В числе этих несчастных был сожжен гуманист Этьен Доле, вина которого заключалась в публикации перевода Платона. По всей стране начались гонения на протестантов и всех, кто был как-либо к ним причастен. В 1545 г. по постановлению парижского парламента две деревни, охваченные ересью, были полностью уничтожены, а их жители поголовно сожжены или изгнаны. А в Провансе по постановлению генерального лейтенанта были сожжены 24 деревни.
Началом научной революции Нового времени принято считать публикацию труда Николая Коперника «О вращении небесных сфер» (1543), где была предложена гелиоцентрическая модель мира. Однако революции в сознании происходят не сразу, а требуют времени, чтобы новые идеи прижились. Коперник, Кеплер, Галилей и Тихо Браге перевернули представления о мире, а философы следовали уже по их стопам. Неудивительно, что новая философия оказалась столь тесно связана с естествознанием. Однако в XVI в. во Франции новая фигура философа-естествоиспытателя не могла появиться сразу. Сперва нужно было расчистить для нее место, подготовить к ее восприятию общественное сознание и, как ни прискорбно, принести кровавые жертвы.
Коперник, поставивший в центр мироздания Солнце, а не Землю, как это делала прежняя космология, поистине совершил переворот. Недаром Т. Кун в своей «Коперниканской революции» утверждал, что это новое учение стало инструментом перехода от средневекового общества к обществу современному, поскольку поменяло отношения человека с Богом и со Вселенной. Во всяком случае, коперниково учение выявило ряд противоречий как в религии, так и в философии. Но, несмотря на всю свою революционность, представление Коперника во многом оставалось сходным с аристотелианским или Птолемеевым. Ведь этот новый мир вовсе не был бесконечным пространством; он по-прежнему оставался ограниченной сферой, а планеты этого мира перемещались по кристаллическим сферам. Тихо Браге опроверг существование этих сфер, не подвергавшееся сомнению в традиционной космологии. Кроме того, он подверг сомнению круговой характер обращения небесных тел, обнаружив, что кометы обращаются по орбитам эллиптическим. При этом он снова поставил Землю в центр мироздания. Галилей упрочил эти новые представления, но, быть может, самым важным его достижением было утверждение новых представлений о науке, не зависящей ни от Священного Писания, ни от авторитета Аристотеля, принимающей во внимание лишь сами доказательства, а не их источники и опирающейся на наблюдение и эксперимент.
Человеческий разум редко движется прямыми путями. Чаще он блуждает окольными тропами, которые ему представляются магистральной дорогой. Не стоит забывать о том, что создатели новой научной картины мира были астрологами, алхимиками, а то и магами. Ведь Коперник занимался астрологией и опирался на учение Гермеса Трисмегиста. Тихо Браге был уверен в том, что звезды влияют на человеческую жизнь. А его ученик Кеплер, также хорошо знакомый с герметическим корпусом текстов, часто советовался со звездами по чисто бытовым вопросам (например, касательно выбора супруги). Зачастую это было почтенной и прибыльной профессией: и Галилей, и Кеплер составляли гороскопы для вельмож. Ретроспективно можно сказать, что развитие научного знания вытеснило магическое знание из интеллектуального пространства Запада, однако не стоит забывать ни о том, что когда-то оно существовало на тех же правах, что и вытеснившая его наука, ни о том, что его присутствие в интеллектуальном горизонте Нового времени стимулировало творческий поиск, без которого новая наука возникнуть не смогла бы.
Все эти новые открытия вызывали сопротивление клириков. Хотя Библия вовсе не является космологическим текстом, многие фрагменты, разбросанные по различным книгам, утверждают незыблемость мироздания и неподвижность Земли. Так, Экклезиаст недвусмысленно говорит, что «земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Эккл. 1, 4–5). А главное, «что было, то и будет» (Эккл. 1, 9). А Иисус Навин, как известно, остановил солнце над Гаваоном, а луну – над долиной Аиалонскою (Нав. 10, 12–13). Новая астрономия противоречила этим утверждениям, которые в то время никто не решился бы подвергнуть сомнению, ибо слишком много инакомыслящих горело на кострах, раскладываемых как католиками, так и протестантами. Ведь и Лютер в своих «Застольных беседах» называл Коперника безумцем.
Но, если создателям новой космологии приходилось туго, исследователям человеческого тела было зачастую еще тяжелее. XVI в. был не только веком астрономии, это было столетие невиданного прогресса в области медицины. Атлас А. Везалия, прекрасно иллюстрированный и подробный, стал первым детальным описанием человеческой анатомии. Сам его автор был приговорен к смертной казни за вскрытие трупов и избежал плахи лишь благодаря заступничеству Филиппа II Испанского. Знакомый Везалия М. Сервет, полагавший, что дыхание очищает кровь, а не охлаждает ее, попал на костер вместе со своей книгой «Восстановление христианства», причем, если Везалия преследовала инквизиция, то к казни Сервета приложил руку Кальвин. У. Гарвею, открывшему кровообращение и опровергшему учение Ж. Фернеля о жизненных духах, повезло больше. Впрочем, он и жил в более терпимой стране. Суровость репрессий против врачей объясняется во многом тем, что именно в пространстве медицинского знания в XVI–XVII вв. разгорелись наиболее ожесточенные сражения между сторонниками господствующего аристотелевского учения и приверженцами нового знания о человеке.
Из всех версий протестантизма во Франции лучше всего прижился кальвинизм. Конечно ни сам Кальвин, ни его учение не были пронизаны духом свободы, однако начиная с 1545 г. обвинениям в кальвинизме подвергся едва ли не каждый хоть сколько-нибудь свободомыслящий писатель или художник.
Книжная культура была ориентирована на сочинения античных писателей. Монтень, например, признавался, что страсть к книгам родилась у него благодаря знакомству с Овидием. Однако наряду с этим появившиеся на галльской почве гуманисты, по выражению Р. Мандру, «начали гордиться французским языком и круглыми сутками переводили на него с латыни, греческого, иврита и итальянского»[45 - Мандру Р. Франция раннего Нового времени, 1500–1640. Эссе по исторической психологии / пер. А. Лазарева. М.: Территория будущего, 2010. С. 164.]. Тот же автор, кстати, очень точно выделяет два аспекта этой деятельности французских гуманистов: с одной стороны, это была охота за манускриптами и филологическая работа по восстановлению точных текстов древних писателей, с другой – реконструкция текстов вела их к реконструкции античной культуры и к историческим исследованиям. Античная же культура значительно отличалась от католической.
В XVI в. французская культура обогатилась огромным количеством переводов с классических языков. Сочинения греческих поэтов, философов и историков появлялись в дотоле невиданном количестве. Наверное, самым ярким, во всяком случае, оказавшим наибольшее влияние на последующие поколения текстом стал перевод Плутарховых «Жизнеописаний», выполненный Жаком Амьо[46 - См.: Aulotte R. Amyot et Plutarque. Geneva: Droz, 1965.]. Монтень, который восхищается этим переводом в своих «Опытах»[47 - Монтень М. Опыты: В 3 т. Т. 1 / пер. А.С. Бобовича. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 348.], подмечает чрезвычайно важный эффект, произведенный им на французскую культуру: «Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски…»[48 - Монтень М. Опыты: В 3 т. Т. 2 / пер. А.С. Бобовича. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 41.] Немногим менее популярны были «Нравственные сочинения» Плутарха, которые тот же Амьо перевел в 1570-х гг. Переводили не только греков. На французском языке стали выходить сочинения Данте, Петрарки и Боккаччо. Французский королевский дом почувствовал тягу к меценатству («новый пыл», по выражению того же Монтеня[49 - Там же. С. 127.]) и стал привечать философов. Гийом Бюде (1468–1540) стал сперва секретарем, а позже библиотекарем Франциска I, а Ж. Лефевр д'Этапль, который перевел Библию на французский язык, был приближен к Маргарите Наваррской. «Гуманистический» королевский двор надолго стал противоположностью и противовесом огрызающейся на гугенотов Церкви и проявляющему нетерпимость к инакомыслию Университету.