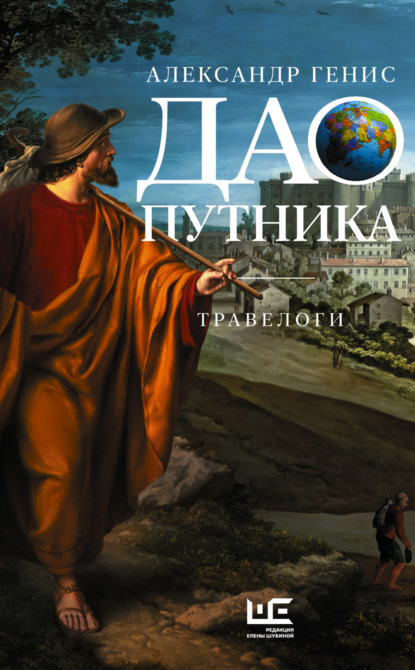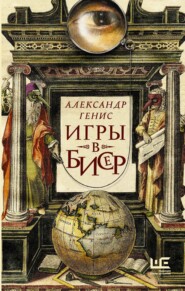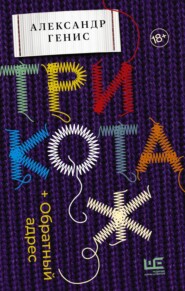По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дао путника. Травелоги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Власть прятала красивое, как школа – литературу: не запрещая, а смешивая – высокое с глупым и ценное с никаким. От тевтонского Средневековья Риге оставили ровно столько, чтобы хватило на съемки фильма про Штирлица.
Красивое, однако, можно срыть, скрыть, но не уничтожить. Только сегодня мой город оказался таким, каким я его представлял, сочиняя себе мировоззрение. Тогда, в еще детской погоне за сверхъестественным, я придумал себе религию. Мою веру определяла терпимость, ведущая к экспансии. Я всегда был готов присоединить новых кумиров, не забывая кадить старым. Толерантность, которую легко назвать обратной стороной всеядности, не давала скучать. Центральная и вовсе не новая доктрина моего культа зиждилась на компромиссе между небом и землей. Божественным я решил считать культуру. Пользоваться ею совсем не то же самое, что поклоняться. Меня охватывала радость от самого присутствия в нашей жизни того необязательного, что оказывается нотой, мыслью, словом, но не делом.
Решающее преимущество моей веры состояло в том, что она исключала сомнения в существовании потусторонней реальности. Чтобы убедиться в этом, не надо было верить на слово, крутить столики или ждать смерти, хватало библиотеки или концерта. В остальном моя религия не слишком отличалась от других.
Правда, вместо вечной жизни она обещала лишь посмертную славу.
Зато не хуже конкурентов моя вера справлялась с посюсторонней задачей религии – наполнять наши будни восторгом и трепетом.
Сфера ее действия была необъятной, но обозримой. Она учила почитать святых и искать у них защиты. Она служила всем, кто ее принимал, и оставалась мертвой буквой для двоечников. И в ней точно не было ничего естественного – начиная с рифмы и кончая оперой.
Конечно, я не надеялся постичь предмет своего поклонения, да и не стремился к этому. Мне нравилось составлять мысленный ландшафт из нагло выбранных фрагментов, которые лепились друг к другу, подчиняясь тем правилам избирательного сродства, что коренились в нашем с историей подсознании. Поклоняясь культуре, я творил себе кумира из конечного и смертного, но я и тут не раскаялся, решив, что на мой век хватит. Я верил в культуру как верят в любовь, зная, что она не бывает вечной.
Понимая, что в чужих глазах твои боги кажутся раскрашенными идолами, я отправлял свой культ в одиночку и тихо. Но однажды, чтобы приобщиться соборности, которой хвалятся другие религии, я заперся от кота в ванной, залез, чтобы не мешало земное притяжение, в воду, включил Девятую симфонию и, подвывая хору этой единственной, как сказал Ницше, мистерии нашего времени, фальшиво и искренне стал выводить слова полупонятного гимна:
Freude, sch?ner G?tterfunken,
Tochter aus Elysium!
Домой возврата нет
Рано или поздно это случается с каждым домом. Вот и нашему пришла пора ремонта. Узнав, что прораб родом из Аргентины, я приложил все усилия, чтобы не заговорить с ним о Борхесе.
– Марадона! – закричал я вместо этого.
– Что – Марадона?
– Наше всё. Вернее – ваше всё.
Хосе вяло кивнул и перешел к смете. Чтобы покрасить стены, пришлось вынести книги в гараж. На второй день Хосе не выдержал.
– Вы священник? – спросил он.
– Почему?! – закричал я.
– О чем еще можно написать столько книг, если не о Боге, – веско сказал Хосе, и я подумал, что все-таки надо было поговорить с ним о Борхесе.
Впрочем, когда маляры ушли, выяснилось, что книги на полки засунуты без всякого понятия – австрийских авторов перепутали с немецкими. Спасая их от второго аншлюса, я расставлял тома в правильном порядке, пока один не упал на пол. Книга раскрылась на фотографии. Черно-белый снимок – ослепленное вспышкой смутно знакомое лицо с острым носом, длинное старомодное пальто, шляпа, которых вообще теперь не носят. Косо в угол уходят библиотечные полки, набитые пухлыми книгами в неярких по нынешним временам переплетах.
– Конец тридцатых, – навскидку определил я и поднял книгу, чтобы прочесть, кого изображал снимок. Неожиданно фотография отделилась от листа. Она была не напечатана, а вложена между страницами – вместо закладки. Тут уж я и без очков узнал себя, только не вспомнил, где снимался. Зато памятной была книга. В Америке мы с ней появились в одном и том же году. Я купил ее на первую зарплату (грузчика), ибо она обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей-антифашистов в изгнании думал, что его труд будут читать как Сивиллину книгу. Называлась она “Каменная скрипка”.
Из них всех в Америке по-настоящему преуспел австрийский еврей Билли Уайлдер. Фамилию для Голливуда он себе выдумал сам, зато именем ему стала детская кличка – в честь Буффало Билла. Его мать обожала американское кино, но языка он все равно не знал. Добравшись до Калифорнии, Уайлдер принялся учить английский с истерическим усердием. По триста слов в сутки, пока друзья и коллеги собирались на кухне за шнапсом, чтобы ругать Америку по-немецки. В результате он стал лучшим сценаристом Голливуда. Фразы из его фильмов вошли в идиоматическое сознание нации, причем не только американской, если вспомнить “В джазе только девушки”.
Став звездой Нового Света, Билли Уайлдер отдал дань Старому, сняв по нему реквием – “Бульвар Сансет”. На самом деле, как всё в Лос-Анджелесе, это не бульвар, а шоссе. Да и закат в фильме происходит внутри, а не снаружи. Под видом героини, сошедшей с экрана великой актрисы немого кино, Уайлдер изобразил своих соотечественников, оставшихся в Америке без языка той предыдущей культуры, что принесла им славу.
Нельзя сказать, чтобы Уайлдер недооценивал заблуждения своих соотечественников.
– Австрийцы, – говорил он, – замечательный народ, сумевший убедить мир в том, что Гитлер – немец, а Моцарт – австриец.
Уайлдер понимал, что Европа сама во всем виновата, в том числе и в том, что не хочет, в отличие от него, переучиваться. Он знал, что выхода нет, но он понимал, как много потерял мир с тех пор, как искусство перешло на доступный массам язык вроде того, каким пользовалось звуковое кино.
В Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть тридцать лет. Брехт, Фейхтвангер, Вёрфель, Стефан Цвейг, Генрих, но главное – Томас Манн привыкли к тому, чтобы их любили. До того как нацисты запретили “Будденброков”, роман выдержал больше ста изданий.
– Немецкая литература, – сказал Томас Манн, – там, где я.
В Новом Свете все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Одних, правда ненадолго, приютил Голливуд. Других поддерживала слава, третьих – связи. Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных эмигрантами в годы фашизма, – “Иосиф и его братья” Манна, “Смерть Вергилия” Броха, брехтовский “Галилей”. Но даже те, кому Америка ни в чем не отказывала, не могли с ней ужиться.
– Хорошо, что он вернулся в Европу, – сказал мне профессор, помнивший Томаса Манна по Принстону, – уж слишком он придирался к Америке.
И было за что! Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи Свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль Старого Света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было первого. По отношению к остальным Америка позволяла себе быть высокомерной до глупости. Дочку Ферми не хотели пускать в страну из-за слабоумия: девочка не знала, кто такие скунсы, а эмиграционный чиновник не мог себе представить страну, где скунсов нет.
Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта вполне честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они не умели делать ничего другого. В том числе – пользоваться английским, которого не признавали даже выучившие язык.
– Приблизительный английский, – жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег, – приблизительные мысли.
Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе “я” сумело потеснить первое.
Дело еще в том, что в другой язык, как в другую веру, переходят, расставаясь с родной средой, которую писатели зовут контекстом. Чем он шире и глубже, тем труднее без него обходиться, ибо вместе с контекстом исчезает почва для индивидуального творчества. Всякий писатель кормится – тайно и явно – цитатами. Но только зрелая, перенасыщенная культурой жизнь сплошь иронична, ибо она заключает себя в невидимые кавычки. Опознанная цитата служит пропуском в стаю. Вот так псы – от дога до таксы – узнают, что принадлежат к одному собачьему семейству. Это, конечно, не мешает им драться, но лошади, скажем, их вообще не интересуют.
– Только детские книги читать, – жаловался я, потеряв очки, корректирующие возрастную дальнозоркость. И гости сразу разделились на тех, кто узнал Мандельштама, и тех, кто помог найти очки.
Радость изощренного чтения в том, чтобы узнать неназванное, заметить спрятанное, развернуть укутанное. В этой игре писатель с читателем попеременно меняются местами, составляя замысловатые фигуры литературной кадрили.
Танцы, впрочем, бывают разными. В истории каждой культуры наступает золотая александрийская осень, пускающая в разлив накопленную летом страсть. Обыгранные цитаты составляют суть острословия от Диогена до Венички Ерофеева.
В Японии я видел, как такую манеру увековечили. В самых живописных местах страны стоят валуны с хокку, высеченными на них еще при сёгунах. Пускаясь в дальние и мучительные странствия, великие поэты прошлого месяцами брели от одной цитаты к другой, стремясь постичь красоту, опосредованную чужим вдохновением.
Эрос текста – в контексте, – подстегивает себя стареющая культура.
Путь творчества – вообразить целое по части и воспламениться им: “Зачем вся дева, раз есть колено”.
Бродского, кстати, обременяла зависимость от контекста (от слова “текст” его просто тошнило). Поэтому он завидовал Фросту, который, в отличие от своих английских коллег, видел в дереве дерево, а не тех королей и монахов, что сидели под ним на всем протяжении утомительно долгой европейской истории. Но и Бродскому жизнь вне контекста не давалась даром. Беда эмигранта в том, что контекст нельзя перевести, его можно только освоить. Любовь космополита определяет произвольность выбора. Но это значит, что жить ему приходится внутри комментария.
Понятно, что в Америке бежавшим от нацистов авторам не хватало внимающих и понимающих поклонников. Хуже, что они исчезли навсегда. Когда кошмар кончился, выяснилось, что эмигранты и метрополия больше не нужны друг другу.
– Все вышедшие при нацистах книги, – объявил Томас Манн, – нужно пустить под нож, ибо они запятнаны “стыдом и кровью”.
– С ваших и начнем, – запальчиво ответили немцы, отказавшие в праве учить себя тем, кто не перенес фашизма на своей шкуре. Не только романы лучшего немецкого прозаика – вся эмигрантская литература вновь осталась без читателей.
– Политика, – говорили им, – отравила ваши чернила, от ненависти окоченел язык.
Эмиграция состарила живших в изгнании писателей сразу на несколько поколений, превратив из современников в классиков. Их язык стал казаться сухим и сложным, трезвым и холодным, ироничным и чужим.
К тому же за годы разлуки германская словесность заговорила на своем, и тоже хорошем, языке. После войны немцы понимали Генриха Бёлля лучше, чем Томаса Манна. Поэтому самый знаменитый, но отнюдь не самый любимый писатель Германии умер на ничьей земле – в Цюрихе.
– Домой, – писал даже не покидавший родину американский романист Томас Вулф, – возврата нет.
Раньше других это понял Стефан Цвейг, живший во время войны в Бразилии. Он покончил с собой в 1942-м, не дождавшись, пока выйдет в свет его последняя книга – “Вчерашний мир”.