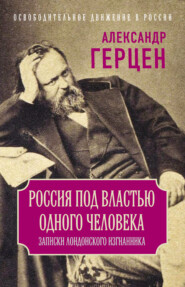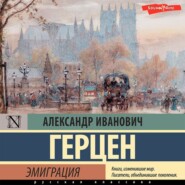По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Былое и думы. Эмиграция
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы; усталый и измученный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, рассуждает так: «Он в пыли, стало, пришел издалека; он спросил курицы, стало, у него есть деньги; руки у него белые, стало, он аристократ». Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак; там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин – Муций Сцевола, ликворист[206 - Ликерщик, от liqueur (франц.).] и гражданин – Брут, Тимолеон – портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции – в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!
Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Лиона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства – через префектов, помимо префектов – через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось, и не только оружие, но и оруженосец: Фуше перешел к Бурбонам; сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства, половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, в Национальной гвардии.
Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно-тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы… Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой – с болезненной, необузданной жаждой денег и наслаждений, растлила целое поколение.
Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.
Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, сближавшимися с целью предательства.
Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны, – так, слабодушный товарищ погубил Конарского. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей, образованных, говорящих нашим языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами…
К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4
/
%. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжакелин-легитимист, и бездна людей, облагодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тюльерийском дворце.
Глава VII
С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: «Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов – от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюлярной тюрьмы.
Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852 – нового ничего, разве какое личное несчастие доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется».
«Письма из Франции и Италии» (1 июня 1851).
Европейский комитет. – Русский генеральный консул в Ницце. – Письмо к А. Ф. Орлову. – Преследование ребенка. – Фогты. – Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне. – Прием в Шателе (1850–1851)
Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия. Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге центральный европейский комитет… а реакция свирепела больше и больше.
После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, я виделся с Маццини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты[207 - Хунты, союза (испанск. junta).] в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней как русский; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.
Та сторона движения, которую комитет представлял, т. е. восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь явно свою юнту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или alien-биллем[208 - Законом об иностранцах (англ.).], или предложением приостановить habeas corpus.
Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают что-нибудь, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, professions de foi[209 - Исповедания веры (франц.).] и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги и лорды, клержимены[210 - Священнослужители (англ. clergyman).] и секретари. Казначеи собирают деньги, литераторы пишут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частию филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с другой – примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат en permanence[211 - Непрерывно заседающий (франц.).]. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, т. е. невозможный.
Заговор должен быть тайной. Время тайных обществ миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания, – будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал никогда ни в каком тайном обществе, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головою.
Другая ошибка или другое несчастие комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще: у них было бы единство ненависти к одному главному врагу – к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.
Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:
«Ницца, 13 сентября 1850.
Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.
Вы чуть ли не один из главных политических деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами в мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело, – с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.
Какая тут может быть организация? – Это одно смешение.
Ни вам, ни истории эти люди не нужны; все, что для них можно сделать, – это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.
Что нового в прокламациях, что в «Proscrit»? где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы – это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли. Но где же она?
Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломация, политика, оружия наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации – чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм – религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.
Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторят.
В «Nouveau Monde» тот же vacuum horrendum[212 - Ужасающая пустота (лат.).], – печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.
Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем – войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну – настоящим казаком… auf eigene Faust[213 - На свой собственный риск (нем.).], как говорят немцы, при большой революционной армии, не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.
В ожидании этого – я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития; но говорить, обращать, убеждать зависит от меня – и я это делаю от всей души и от всего помышления.
Простите мне, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, – но тоже преданным и своим убеждениям».
На это письмо Маццини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и пр.
В ту же осень, в которую меня вспомнил Маццини и европейский комитет, вспомнил меня, наконец, и противуевропейский комитет Николая Павловича.
Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал поконченными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.
Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура второго порядка.
– Я имею вам сделать сообщение.
– Несмотря на то, – отвечал я, – что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.
Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: «Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им…» – снова встал.
Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:
– Сделайте одолжение, я слушаю.
– «…ператорское величество, – продолжал он, снова садясь, – изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки».
Он замолчал. Я продолжал не говорить ни слова.
– Что же мне отвечать? – спросил он, складывая бумагу.
– Что я не поеду.
– Как не поедете?
– Так-таки, просто не поеду.
– Вы обдумали ли, что такой шаг…
– Обдумал.