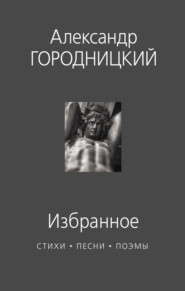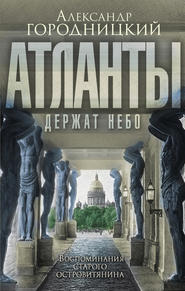По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Атланты. Моя кругосветная жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Погоди немного, юная подруга, —
Руки ведь трясутся, и глаза не те.
Командир со штурманом ведь предупреждали,
И хирург нашептывал, мне пуская кровь:
Нынче это самое получится едва ли —
Выпитую флягу не наполнить вновь.
Кожаные брюки вновь на старом месте,
И в стакане челюсть бьется о края.
Ты чего пристала, школьница-невеста?
Отойди от дедушки, милая моя.
В 1991 году в Израиле в перерыве моего концерта ко мне подошел старый седой человек в пиджаке несмотря на жару, с большим числом советских орденских колодок и сказал: «Я старый полярный летчик, всю жизнь работал в Арктике, с фашистами воевал. Вашу песню полярных летчиков пою много лет. Думал, что народная. Теперь вот уже несколько лет сижу здесь. Уделите мне, пожалуйста, после концерта хоть полчаса, про Арктику вспомнить. А то ведь здесь поговорить не с кем…» (Смотрю, а у него из кармана пиджака выглядывает горлышко водочной бутылки.) Он горестно хмыкнул и произнес следующие исторические слова: «И кому нужна в Израиле Полярная авиация?»
В течение пяти лет, с 1957 по 1962 год, мне каждую весну доводилось летать из Питера в Игарку в начале полевого сезона. Несколько лет назад я вспомнил об этом, снова вылетая из Питера на Север.
Под крылом над спящим Ленинградом
Небо разгорается в дыму.
Мой сосед, со мной сидящий рядом,
Он куда летит и почему?
Осторожным удивленным глазом
Он в окно глядит на облака.
Он покуда не женат ни разу
И друзей не хоронил пока.
Снежного не покидал причала,
С черной не соседствовал бедой.
Он худой, носатый и курчавый, —
Я сутулый, лысый и седой.
Повидал пока он в жизни мало,
В дальний отправляясь перелет.
Ждет его на Мойке дома мама,
А меня никто уже не ждет.
Как бы жизнь свою построил, если
Все начать сначала, не пойму.
Мой двойник, сидящий рядом в кресле,
Он куда летит и почему?
Снова оказалось по пути нам,
Неразрывным связанным родством.
Я лечу на турбореактивном,
Он еще на старом – винтовом.
За окошком сгустки черной влаги
Превращает солнце в молоко.
Далеко лететь ему, бедняге, —
Мне уже – совсем недалеко.
Пропасти под облаками круты.
На востоке теплится рассвет.
Мы летим по одному маршруту
С разницею в пять десятков лет.
С тех давних северных экспедиций запомнился мне и еще один увлекательный и небезопасный способ путешествия – плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых лодках, именуемых почему-то клиперботами. Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, их часто обвязывали снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда давало гарантию безопасности на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить на плаву опасный участок на неведомой реке, полагалось тщательно осмотреть его с берега. Это, однако, в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, так как требовало дополнительных усилий. Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в том числе и с трагическим исходом. Но об этом – ниже.
По должности мне надлежало объезжать все полевые партии экспедиции, работающие в тайге и тундре (а было их восемь или десять), и проверять состояние аппаратуры для поисков урана, а также результаты самих поисков. Шел 57-й год. Помню, в одно прекрасное утро, находясь в одной из партий на реке Кулюмбе, я вдруг обнаружил, что все наши дозиметры вышли из строя – они зашкаливали при включении, показывая ураганную радиоактивность. Я, конечно, решил, что все приборы сломались, и немедленно сообщил об этом на базу экспедиции в Игарку. Туда, однако, уже пришли такие же сообщения из всех без исключения партий. Через день, когда мы поймали «вражий голос», оказалось, что дело вовсе не в приборах – просто наши рванули неподалеку, на Новой Земле, атомную бомбу – тогда с этим было просто. Больше недели, особенно после дождя, работать мы не могли из-за огромного радиоактивного фона.
Первым начальником Енисейской экспедиции при мне был Анатолий Васильевич Лоскутов. Мне пришлось довольно много в 57-м году постранствовать с ним по тайге, перебираясь, обычно с караваном оленей, в правобережье Енисея, из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я – состояние попутных поисков. Был он человек довольно интеллигентный и, видимо, неплохой геолог, но сильно пьющий. Он оказался хорошим рисовальщиком и, кажется, даже учился прежде в Мухинском.
В пути нас сопровождало два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки – каюр Мишка Довендук и его жена Тоська с удивительно красивым и тонким лицом и безнадежно кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока. Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его день и ночь. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричащей на мужа Тоськи, служивший нам безошибочным ориентиром. Иногда, хотя и довольно редко, своей постоянной руганью Тоська настолько донимала супруга, что он все-таки не выдерживал. В запасе против сварливой подруги у него всегда был один-единственный козырь. «А тебя, Тоська, солдат…!» – торжествующе выкрикивал он в самые критические моменты семейной перепалки, и Тоська на какое-то время действительно умолкала, все же испытывая, видимо, определенное смущение при упоминании о ее явном грехе, весьма, правда, недолгое.
В наших каюрах-эвенках, при всей детскости и неустройстве звериного их бытия, меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам, горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в грязи и нищете, в нечеловеческих условиях, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира по отношению к недолгим и ничего не понимающим пришельцам. Они мирились с необходимостью нашего обязательного присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.
Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, то дым весь уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, когда попытки согреться с помощью буржуек в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к их загоранию. Котел с едой кипел прямо здесь – в чуме, и не надо было выскакивать, чтобы поесть, наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени – они ели оленину – свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры, спали на полу, застланном такими же шкурами, обеспечивавшими тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.
Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такой эпизод, случившийся в те годы в нашей Енисейской экспедиции. Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних нартах сидит каюр эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах трясутся, так же надежно привязанные, мешок картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречной нартой, он спрашивает у каюра: «Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?» – «Экспедиция, – невозмутимо отвечает каюр, – всякий разный груз».
И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм негромких песен, которые они пели. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. «Мишка, про что поешь?» – спрашиваю я у него. «Как про что? Про реку, – удивляется он, – вдоль реки, однако, едем». Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. «А теперь про что, все еще про реку?» – «Нет, однако, теперь про сосну – вон большая сосна показалась». Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. «Что, опять про сосну?» – «Совсем не про сосну, – терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он мне. – Видишь, дым над лесом появился – чум, однако, близко». Эта нехитрая творческая манера – петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы запала мне в сердце.
Что же касается оленей, то странные безропотные эти животные всегда вызывали мое удивление своим неизменным безмолвием в любых случаях жизни. Они даже умирали молча – только плакали. В жаркое летнее время они десятками гибли от «копытки». Пару раз случалось нарты с грузом таскать на себе. Зрелище молча умирающих оленей в первый год так поразило меня, что я написал какие-то весьма чувствительные стихи о нашей экспедиционной жизни, которые начинались так:
В болотах ложатся и гаснут олени —
Все меньше оленей в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Была там еще одна особо понравившаяся мне строчка: «Тревожными тонкими голосами кричат исступленные каюры». Вернувшись в Ленинград, я имел неосторожность показать эти стихи Нонне Слепаковой и заодно рассказал о поисках урана и тяготах экспедиционной жизни. Она немедленно откликнулась пародией:
Хочу написать я о женских коленях —
Их было немало в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Когда колотил молотком по каменьям
И партию вел в бурелом и буран,
До боли скучал я по женским коленям,
Но пагубно действует подлый уран.
Мы поняли – стать не придется отцами —
Мужьями не быть наступила пора.
Тревожными тонкими голосами
Кричат исступленные фраера.
И я подвываю, считаю оленей,
И слушаю тихо, как буря гремит.
Пишите мне письма, хозяйки коленей,
Мой адрес несложен: Игарка, Гранит.
Я к вам относился добротно, без лени,
Но чувствую я перемену в себе.
На что мне колени, чужие колени?
Все меньше коленей в моей судьбе.
Руки ведь трясутся, и глаза не те.
Командир со штурманом ведь предупреждали,
И хирург нашептывал, мне пуская кровь:
Нынче это самое получится едва ли —
Выпитую флягу не наполнить вновь.
Кожаные брюки вновь на старом месте,
И в стакане челюсть бьется о края.
Ты чего пристала, школьница-невеста?
Отойди от дедушки, милая моя.
В 1991 году в Израиле в перерыве моего концерта ко мне подошел старый седой человек в пиджаке несмотря на жару, с большим числом советских орденских колодок и сказал: «Я старый полярный летчик, всю жизнь работал в Арктике, с фашистами воевал. Вашу песню полярных летчиков пою много лет. Думал, что народная. Теперь вот уже несколько лет сижу здесь. Уделите мне, пожалуйста, после концерта хоть полчаса, про Арктику вспомнить. А то ведь здесь поговорить не с кем…» (Смотрю, а у него из кармана пиджака выглядывает горлышко водочной бутылки.) Он горестно хмыкнул и произнес следующие исторические слова: «И кому нужна в Израиле Полярная авиация?»
В течение пяти лет, с 1957 по 1962 год, мне каждую весну доводилось летать из Питера в Игарку в начале полевого сезона. Несколько лет назад я вспомнил об этом, снова вылетая из Питера на Север.
Под крылом над спящим Ленинградом
Небо разгорается в дыму.
Мой сосед, со мной сидящий рядом,
Он куда летит и почему?
Осторожным удивленным глазом
Он в окно глядит на облака.
Он покуда не женат ни разу
И друзей не хоронил пока.
Снежного не покидал причала,
С черной не соседствовал бедой.
Он худой, носатый и курчавый, —
Я сутулый, лысый и седой.
Повидал пока он в жизни мало,
В дальний отправляясь перелет.
Ждет его на Мойке дома мама,
А меня никто уже не ждет.
Как бы жизнь свою построил, если
Все начать сначала, не пойму.
Мой двойник, сидящий рядом в кресле,
Он куда летит и почему?
Снова оказалось по пути нам,
Неразрывным связанным родством.
Я лечу на турбореактивном,
Он еще на старом – винтовом.
За окошком сгустки черной влаги
Превращает солнце в молоко.
Далеко лететь ему, бедняге, —
Мне уже – совсем недалеко.
Пропасти под облаками круты.
На востоке теплится рассвет.
Мы летим по одному маршруту
С разницею в пять десятков лет.
С тех давних северных экспедиций запомнился мне и еще один увлекательный и небезопасный способ путешествия – плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых лодках, именуемых почему-то клиперботами. Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, их часто обвязывали снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда давало гарантию безопасности на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить на плаву опасный участок на неведомой реке, полагалось тщательно осмотреть его с берега. Это, однако, в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, так как требовало дополнительных усилий. Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в том числе и с трагическим исходом. Но об этом – ниже.
По должности мне надлежало объезжать все полевые партии экспедиции, работающие в тайге и тундре (а было их восемь или десять), и проверять состояние аппаратуры для поисков урана, а также результаты самих поисков. Шел 57-й год. Помню, в одно прекрасное утро, находясь в одной из партий на реке Кулюмбе, я вдруг обнаружил, что все наши дозиметры вышли из строя – они зашкаливали при включении, показывая ураганную радиоактивность. Я, конечно, решил, что все приборы сломались, и немедленно сообщил об этом на базу экспедиции в Игарку. Туда, однако, уже пришли такие же сообщения из всех без исключения партий. Через день, когда мы поймали «вражий голос», оказалось, что дело вовсе не в приборах – просто наши рванули неподалеку, на Новой Земле, атомную бомбу – тогда с этим было просто. Больше недели, особенно после дождя, работать мы не могли из-за огромного радиоактивного фона.
Первым начальником Енисейской экспедиции при мне был Анатолий Васильевич Лоскутов. Мне пришлось довольно много в 57-м году постранствовать с ним по тайге, перебираясь, обычно с караваном оленей, в правобережье Енисея, из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я – состояние попутных поисков. Был он человек довольно интеллигентный и, видимо, неплохой геолог, но сильно пьющий. Он оказался хорошим рисовальщиком и, кажется, даже учился прежде в Мухинском.
В пути нас сопровождало два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки – каюр Мишка Довендук и его жена Тоська с удивительно красивым и тонким лицом и безнадежно кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока. Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его день и ночь. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричащей на мужа Тоськи, служивший нам безошибочным ориентиром. Иногда, хотя и довольно редко, своей постоянной руганью Тоська настолько донимала супруга, что он все-таки не выдерживал. В запасе против сварливой подруги у него всегда был один-единственный козырь. «А тебя, Тоська, солдат…!» – торжествующе выкрикивал он в самые критические моменты семейной перепалки, и Тоська на какое-то время действительно умолкала, все же испытывая, видимо, определенное смущение при упоминании о ее явном грехе, весьма, правда, недолгое.
В наших каюрах-эвенках, при всей детскости и неустройстве звериного их бытия, меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам, горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в грязи и нищете, в нечеловеческих условиях, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира по отношению к недолгим и ничего не понимающим пришельцам. Они мирились с необходимостью нашего обязательного присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.
Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, то дым весь уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, когда попытки согреться с помощью буржуек в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к их загоранию. Котел с едой кипел прямо здесь – в чуме, и не надо было выскакивать, чтобы поесть, наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени – они ели оленину – свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры, спали на полу, застланном такими же шкурами, обеспечивавшими тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.
Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такой эпизод, случившийся в те годы в нашей Енисейской экспедиции. Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних нартах сидит каюр эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах трясутся, так же надежно привязанные, мешок картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречной нартой, он спрашивает у каюра: «Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?» – «Экспедиция, – невозмутимо отвечает каюр, – всякий разный груз».
И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм негромких песен, которые они пели. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. «Мишка, про что поешь?» – спрашиваю я у него. «Как про что? Про реку, – удивляется он, – вдоль реки, однако, едем». Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. «А теперь про что, все еще про реку?» – «Нет, однако, теперь про сосну – вон большая сосна показалась». Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. «Что, опять про сосну?» – «Совсем не про сосну, – терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он мне. – Видишь, дым над лесом появился – чум, однако, близко». Эта нехитрая творческая манера – петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы запала мне в сердце.
Что же касается оленей, то странные безропотные эти животные всегда вызывали мое удивление своим неизменным безмолвием в любых случаях жизни. Они даже умирали молча – только плакали. В жаркое летнее время они десятками гибли от «копытки». Пару раз случалось нарты с грузом таскать на себе. Зрелище молча умирающих оленей в первый год так поразило меня, что я написал какие-то весьма чувствительные стихи о нашей экспедиционной жизни, которые начинались так:
В болотах ложатся и гаснут олени —
Все меньше оленей в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Была там еще одна особо понравившаяся мне строчка: «Тревожными тонкими голосами кричат исступленные каюры». Вернувшись в Ленинград, я имел неосторожность показать эти стихи Нонне Слепаковой и заодно рассказал о поисках урана и тяготах экспедиционной жизни. Она немедленно откликнулась пародией:
Хочу написать я о женских коленях —
Их было немало в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Когда колотил молотком по каменьям
И партию вел в бурелом и буран,
До боли скучал я по женским коленям,
Но пагубно действует подлый уран.
Мы поняли – стать не придется отцами —
Мужьями не быть наступила пора.
Тревожными тонкими голосами
Кричат исступленные фраера.
И я подвываю, считаю оленей,
И слушаю тихо, как буря гремит.
Пишите мне письма, хозяйки коленей,
Мой адрес несложен: Игарка, Гранит.
Я к вам относился добротно, без лени,
Но чувствую я перемену в себе.
На что мне колени, чужие колени?
Все меньше коленей в моей судьбе.