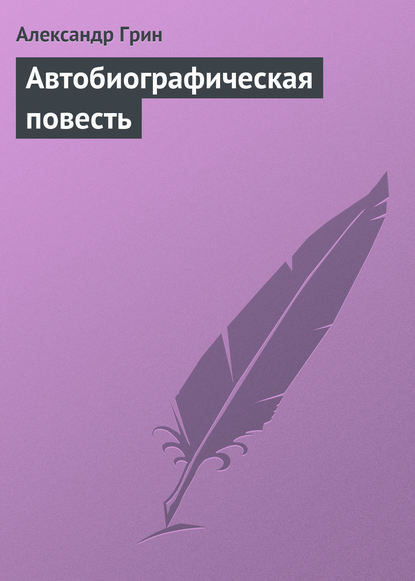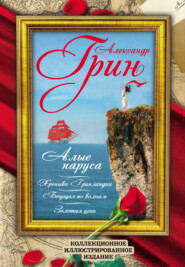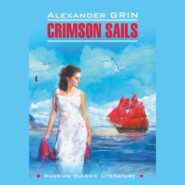По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автобиографическая повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь мне предстояло проехать до Одессы два дня и две ночи.
II
Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.
В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесучовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.
По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.
Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудами багажа, и шепотом сообщил ей, что с нами едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.
Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р. О. П. и Т.
– Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами; он может тебя устроить, – сказал мазурик. – Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.
Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако письмо взял. Кроме недоверия, мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым.
Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыв его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма; на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов – лет девятнадцати; он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или учеником. Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как ученик плавал без жалованья, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.
Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул – но страшно вспыльчив и нетерпелив.
Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, – черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырьковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу: взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника: «нет ли вакансий», а если этот спросит: «где раньше плавал?» – сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.
Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление: морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно дальше.
Было так знойно, так утомительно вокруг, так все ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, причем выходил пять или шесть часов.
Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти; видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послушался; естественно, эффект был плачевный: затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.
Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла; подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида – модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар… словом, я пересмотрел все, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.
Как был я легкомыслен, вернее – беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом; еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.
Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим.
У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом – эти высшие существа, свои пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» – выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, – кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то в этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно – в ученической курточке, – надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», – слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, потому что у меня не было денег.
Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать; спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого – одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.
Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу – неясно я знал это.
Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.
При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.
Единственный для меня способ достать денег был таков: продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за все двенадцать-пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать-пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».
На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной, в кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.
Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения: босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.
Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.
Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.
Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет»; другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота: «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо-безвкусной окраски: голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались в их очертаниях. Под бугшпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.
Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил: мне было, должно быть, совестно – совестно объяснить знаками голод.
Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и товарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом дуговые фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков: «Вира! Майна! Хабарда! (берегись!)»; полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками». Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечистот – резко возбуждали меня.
Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.
С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население: грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов; таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.
Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.
По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими массивами – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.
Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов; едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед. Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.
Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошел вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны; моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.
Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступней и коленом, две небольшие язвочки, такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться; соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише.
Я сходил на больничный прием; там я получил бинты и йодоформ.
Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таков, что жильцы и хозяева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю на дворе перевязку, прочел мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идет по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть; он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошел через двор и упал в обморок.
Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может – у нее дети, жильцы в претензии и т. д.
Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел – эти люди мне не поверили бы – и тут же решил воспользоваться наконец письмом неизвестного пассажира.
III
Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию.
Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами навыкате, Хохлов осыпал меня вопросами: «Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств?»
– Я хотел сам, – твердил я. – Я хотел устроиться сам.
Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный, болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал шестьдесят копеек, и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение; я уже думал, что на днях буду служить матросом.
– Поди купи себе табаку! – сказали бухгалтеры, провожая меня.
Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе.
Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся, пожилой хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в бордингаузе агентства, в так называемой «береговой команде». Матроса звали Кулиш, прозвище было Дядька.
II
Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.
В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесучовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.
По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.
Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудами багажа, и шепотом сообщил ей, что с нами едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.
Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р. О. П. и Т.
– Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами; он может тебя устроить, – сказал мазурик. – Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.
Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако письмо взял. Кроме недоверия, мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым.
Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыв его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма; на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов – лет девятнадцати; он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или учеником. Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как ученик плавал без жалованья, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.
Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул – но страшно вспыльчив и нетерпелив.
Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, – черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырьковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу: взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника: «нет ли вакансий», а если этот спросит: «где раньше плавал?» – сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.
Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление: морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно дальше.
Было так знойно, так утомительно вокруг, так все ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, причем выходил пять или шесть часов.
Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти; видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послушался; естественно, эффект был плачевный: затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.
Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла; подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные вещей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида – модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар… словом, я пересмотрел все, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.
Как был я легкомыслен, вернее – беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом; еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.
Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но все окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным – чужим.
У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом – эти высшие существа, свои пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» – выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, – кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то в этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно – в ученической курточке, – надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», – слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, потому что у меня не было денег.
Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать; спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого – одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.
Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу – неясно я знал это.
Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.
При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.
Единственный для меня способ достать денег был таков: продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за все двенадцать-пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать-пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».
На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной, в кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.
Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения: босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.
Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.
Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.
Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет»; другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота: «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо-безвкусной окраски: голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались в их очертаниях. Под бугшпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.
Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил: мне было, должно быть, совестно – совестно объяснить знаками голод.
Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и товарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом дуговые фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков: «Вира! Майна! Хабарда! (берегись!)»; полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками». Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечистот – резко возбуждали меня.
Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.
С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население: грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов; таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.
Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.
По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими массивами – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.
Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов; едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед. Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.
Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошел вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны; моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.
Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступней и коленом, две небольшие язвочки, такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться; соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише.
Я сходил на больничный прием; там я получил бинты и йодоформ.
Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таков, что жильцы и хозяева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю на дворе перевязку, прочел мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идет по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть; он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошел через двор и упал в обморок.
Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может – у нее дети, жильцы в претензии и т. д.
Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел – эти люди мне не поверили бы – и тут же решил воспользоваться наконец письмом неизвестного пассажира.
III
Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию.
Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами навыкате, Хохлов осыпал меня вопросами: «Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств?»
– Я хотел сам, – твердил я. – Я хотел устроиться сам.
Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный, болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал шестьдесят копеек, и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение; я уже думал, что на днях буду служить матросом.
– Поди купи себе табаку! – сказали бухгалтеры, провожая меня.
Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе.
Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся, пожилой хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в бордингаузе агентства, в так называемой «береговой команде». Матроса звали Кулиш, прозвище было Дядька.