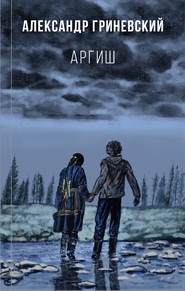По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кондратьев и Лёля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да чтоб тебя! Растопырилась со своей клюкой на всю дорожку, не обежать.
Надо просто чувствовать тело, как сокращаются мышцы, как учащается дыхание и выступает пот на коже. Заставить тело поработать, чтобы потом, стоя под душем, ощутить себя целиком – плечом пошевелить и чувствовать, как напрягаются мышцы, словно волна под кожей прокатывается. Хорошо… Всего лишь требуется обрести гармонию между умом и телом.
Ладно, проехали. Вдох-выдох. Мимо магазина. Блин! Еще не рассвело толком, а синюшные уже возле входа толкутся. Помрут, если не опохмелятся. Ненавижу алкашей! Моя бы воля – расстреливал бы без малейшего сомнения. К стенке этих сук и из пулемёта.
Теперь в проход между гаражами. А-а-а! Грязища какая! Кроссовки опять мыть придется. Здесь – шагом – не разбежишься. Пути железнодорожные. Налево-направо посмотреть, капюшон с головы скинуть, а то поездом сметёт.
Вот он – лес. Осенний, неухоженный, пустой. Листва осклизлая под ногами. Банки пивные, пакеты полузасыпанные – выглядывают. Все равно хорошо. Свежо и сыро. Дышится легко. Ну-ка, боксёрскую двоечку! Подбородок к груди, правой-левой, раз-два. Ветви у берёз черные, голые, капельки повисли. Промокли, бедные, насквозь. Вот и поляна сквозь деревья уже видна. Ещё двоечку: раз-два.
Лес
Лес я люблю. Там, где родился, он не такой – предгорье. Лезут деревья вверх по склону, кажется, до вершины хотят добраться. Не получается у них – голые стоят вершины. Да и какие это горы – так, холмы пологие с голыми макушками. Внизу, у самого подножья, речка течет – мелкая, но широкая. Бурлит вода, облизывая камни, мокрыми горбами выпирающие посреди русла. Чистая, холодная, зачерпнёшь в ладонь напиться – зубы ломит.
Нет, здесь лес не такой… Какой-то он здесь старый, серый, голый. Может, потому что осень? Или потому что елок и сосен нет? Чернолесье. Березы да осины и ещё им подобные… Нет зелени, не радуется глаз. И молодняка нет. Зато светло и просторно среди отдельно стоящих стволов, что тянуться в серое дождливое небо. Тропинки не нужны – бреди куда хочешь, загребая ногами пожухлую листву, перешагивай через поваленные стволы. Я, когда Алиска родилась, часто сюда с ней ходил. Перетащишь коляску через железнодорожные пути (вот жена ругалась-то…), и кати, толкай её перед собой. Зато тихо – никого. Только птица порой вспорхнет.
Блин! Денег же я с собой не взял! Обещал вчера Марине молока купить. Будет опять свои мюсли с утра замешивать. Как это жрать можно?
Возле железки пришлось ждать, пока пронесётся электричка. В Москву – набита под завязку. Лица у людей тусклые, как и сами окна, через которые их едва видно. Вот они – винтики и гаечки. Сложены в железный громыхающий ящик. Повезли к месту работы. Сейчас вставят на места, ввернут куда надо, прокрутится со скрипом механизм, начнёт работать. А вечером – снова в ящик и на полку до следующего утра. И так, пока не сносятся, не изотрутся.
Перешел железнодорожные пути, оскальзываясь на крупном щебне.
Шпалы-то бетонные. Не то что у нас в посёлке – деревянные, грязно-чёрные, креозотом воняют. Ушлые мужики их воровали – на сараи, подсобки, а кто и бани строил. Они же вечные. Не гниют и не горят. А то, что воняют, так ко всему привыкнуть можно.
Между гаражами, по обломанным доскам, уложенным в грязи. А теперь снова бегом.
У подъезда кошка на спинке лавочки застыла чёрно-белым столбиком. Интересно, что будет?
Заметила, когда уже совсем близко подошел. Спрыгнула. Замерла на мгновение, на асфальте распласталась, будто вжаться в него хочет, и метнулась в кусты, и дальше – вдоль цоколя дома.
Помнит сучка! Или сучок…
Марина
Марина – она умная. Я её уважаю. Не прошло и года после свадьбы, она меня раскусила. Сволочь, говорит, ты, Кондратьев. Какая же ты сволочь!
Уже беременна была…
И говорит проникновенно, слова растягивает, будто сама к ним прислушивается, на языке катает: «Сволочь ты, Кондратьев…»
Я не разубеждаю, только смеюсь в ответ. Раз понимает – хорошо. Меня это устраивает, да и её… раз живёт со мной до сих пор. Вот за то и уважаю, что понимает.
Да, нужна была! В Москве надо было остаться. Любым способом зацепиться. Слово себе дал: кроме Москвы – нигде больше жить не буду. Сейчас, правда, о загранице подумывать стал: свалить из этого грёбаного совка навсегда. Жить там хорошо, но вот деньги-то здесь делать надо. Время сейчас такое… Там – только копейки собирать.
Марина – она москвичка. Из хорошей семьи. Единственная дочь. Мама, папа… – всё как у людей. Квартиру нам сразу двухкомнатную купили.
Ребёнок через год.
Зацепился за Москву. Остался.
Любовь? Какая, к чёрту, любовь? Живём вместе, и ей удобно, и мне.
Дверь подъезда распахнулась. Навстречу молодая девушка – на порыве, в движении. Алиска! Вся в меня.
Остановился, улыбаясь, стянул капюшон.
– Привет, пап.
– Привет, дочь. Опять опаздываешь?
– Ага, – на ходу чмокнула в щёку. – Пока. Побежала.
Смотрел вслед. Крупная, не в Марину, в меня пошла. Чуть толстовата. Вон какую задницу отрастила. А так ничего. Куртка приличная, джинсы в облипку, рюкзачок. Только на хрена она всякие висюльки детские к рюкзачку привешивает? Марина оправдывает, говорит, ещё ребенок. Какой ребёнок? Скоро семнадцать. Я в её годы был голодный и злой. Общага. На одну стипендию разве проживёшь? За любую подработку хватался. Даже дворником. Джинсы мечтал хорошие купить. А эта – ухожена, папа, мама есть. Английский, музыкалка. Москва. Летом на море. Маринин ритуал: ребёнку нужно солнце и море.
Криво улыбнулся, вспомнив, как лет пять назад ездили на дачу к знакомым. Там речка рядом, пошли купаться. Алиска окунулась и закричала: «Мама, мама, здесь вода несолёная! Разве так бывает?»
Дом
Дом как дом. Девятиэтажка панельная, таких в Москве сотни. Подъезд ухоженный, лифт новый с огромным зеркалом. Хороший дом, но не мой. Квартира не моя. Продать к чёрту!
Квартиру тесть подарил, на свадьбу. На Марину записана. Как-то сразу почувствовал: дочку они обустраивают. Я – так… потому что рядом прилепился. Радость показывал, благодарную улыбочку выжимал: что я, идиот, что ли? кто ж у дарёного коня зубы рассматривает? Спасибо, благодетели!
Молодой был, верил ещё во что-то… Рассказал Марине, какой вижу эту квартиру. Пустая, минимум мебели, дневное освещение – яркое, светом все заливающее, кровать – низкая, почти на полу стоит. Никаких шкафов, книг, безделушек. Ковролин с высоким ворсом, чтобы босиком ходить. Обои светлые. Не дослушала.
– Кондратьев, – говорит, – ты что, в офисе жить собрался? Тогда не со мной.
Я и заткнулся.
Теперь у нас уют. Шкафы от вещей и от книг ломятся, картинки по стенам, обои в цветочек, бра над двуспальным супружеским ложем, жёлтым покрывалом застеленным. Не говоря уж про Алискину комнату – склад мягких игрушек.
И пыль – я чувствую её – везде пыль.
Поднимался на шестой этаж по лестнице, стараясь не сбить дыхание. На подоконнике – майонезная банка, окурками наполовину заполнена, грязно-жёлтым месивом. Передёрнуло. Что за идиоты? Видя такое, как можно курить? Они что, не понимают: у них лёгкие тем же месивом заполнены. Впрочем, сдохнут – туда им и дорога.
Под душ. Пропотевшее скинул, потом на балконе развешу. Воду горячую включил – люблю, чтобы пар, чтобы зеркало запотевало. Бритва, пена для бритья – скребу щёки. Голый стою – тело своё чувствую. Хорошее тело, сорваться и бежать в любой момент готовое.
Столько лет прошло, а горячая вода все чудом кажется. В любой момент включил, а она льётся. И экономить не надо – не кончится. Теперь зубную щётку в рот и контраст: холодная-горячая, холодная-горячая.
Зеркало запотело. Полотенцем. «Ну, здравствуй, Лёша!» Да… уже мужик… не пацан. Идёт время. Жирок поднакопился, живот наметился. Двигаться надо больше, иначе совсем заплыву… Что сутулишься? Развернул плечи, поиграл мускулами спины. И плечи какими-то покатыми стали. Роста бы добавить не мешало. Не красавец, одним словом. Приблизил лицо к зеркалу, взъерошил жидкие волосы – вот уже и залысины со лба пошли. У-у-у, морда рязанская! Круглая, как блин. Хорошо хоть не рябой… А вот взгляд злой, настороженный. Ну, это мы сейчас очочками поправим, уже проходили.
Посёлок
Вдоль реки дома часто. А вверх по склону разбросаны реже. Дорога гравийная по самому берегу.
Посёлок длинно вдоль реки вытянут. Ближе к краю – площадь, где останавливаются автобусы. Две двухэтажные бетонные коробки. Здание партийного руководства и магазин с рестораном на втором этаже. Ленин на постаменте рукой в просвет между горами тычет. Остальные дома – деревянные развалюхи – утопают в снегу, лишь тропинки от калитки к дверям протоптаны. Еще котельная – приземистый кирпичный сарай с торчащей трубой и грудой угля у входа. В баню – в соседний город, два часа на автобусе. В котельной есть душ, можно договориться, но после душа выходишь еще грязнее – весь в угольной пыли.
Время делилось на тепло и холод. В школу осенью пошел – начался холод; кончился учебный год – тепло пришло, лето наступило – согрелись. Вечный насморк, зелёная сопля под носом. Зимы не такие и холодные – не Сибирь, даже не средняя полоса. В жизненном укладе все дело было, в привычке, а может и в повальной бедности – это я уже потом понял.
Дома хлипкие, из доски сколочены. Окна однорамные. Такие домики в Подмосковье летними называют. Тепло из них выдувается на раз. Печку топишь – тепло, протопил – через час – холод собачий. Мать, пока пить не начала, печку на автомате топила. Утром и вечером. Даже если жрать нечего было.
Другие электронные книги автора Александр Гриневский
Другие аудиокниги автора Александр Гриневский
Аргиш




 0
0