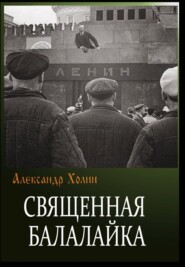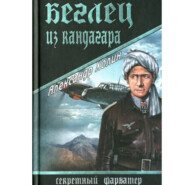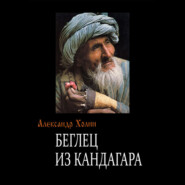По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Адамантовый Ирмос, или Хроники онгона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Масыга обезетельник тебе офенится, – заговорил с Никитой коробейник на каком-то полурусском сленге. – Купи, мил человек, берестяну грамотку, аль лубок на липовой коре. Всё радость благодатная. Всё подарочек ближнему, аль себе для поправушки дел нешуточных.
Никита и бровью не повёл, слушая лопотню арбатского офени. Пока тот балагурил и словоблудничал, парень взял с коробейного лотка несколько лубочных картинок, выполненных и вправду на хорошо обработанной мягкой липовой коре.
Никита с увлечением и удивлением рассматривал диковинные самоделки, поскольку никак не ожидал здесь увидеть что-либо подобное. Офеня всё ещё продолжал лопотать на полурусском, расхваливая товары, и на зов торгаша подошли ещё несколько человек, забредших по случаю на праздник арбатского бытия и веселия.
– Ой, прелесть какая! – протиснулась к лотку молоденькая девушка.
– Настоящая ручная работа! Не подделка какая-нибудь! – отозвался коробейник.
– Сколько стоит? – друг девушки, видимо, решил тряхнуть мошной на радость подружке и не скупиться на затейливые безделушки. – Мы, пожалуй, купим у вас кое-что. Сколько стоит вот это? – парень указал на затейливую игрушку-свиристелку, вырезанную из липы.
– Стоит – не воет, воет – не смоет. По вычуру юсов, – опять забалагурил странный книгоноша. – Брать дорого не стану и не сыпь мне соль на рану!
Потом офеня повернулся спиной к парочке потенциальных покупателей и, нагло наступая на Никиту, тесня его к вестибюльной колоннаде театра Вахтангова, заговорил уже более современным языком.
– Купи, господин хороший, свиристельку-самосвисточку, аль гусельки самогудные, переливчатые. Всё польза душе ищущей, отрада сердцу неспокойному. Тебе мой товар как никому нужен, уж я-то знаю. А хошь, мил-человек, книжицу редкую из стран заморских да сочинителей тутошних, не нами писанную, не тобой прочитанную? Почти книгоношу-офенюшку, купи хоть поэмку за денежку. Никаким не Байроном, а самим Пушкиным писанную, да ишчё не читанную, глаголом не глаголемую. А вот роман Сухово-Кобылинский. Опять жа нигде, окромя меня, не купишь, сгоревший потому как.
– Сгоревший? – Никиту аж передёрнуло, будто ему предлагали купить свеженькой мертвечатинки под гламурным соусом настоянном на тридцати трех травах.
– А то, как же! – подхватил офеня. – Кто сказал, что рукописи не горят? Горят, ещё как! Горят, синим пламенем, дымным дыменем, что и вкруг не видать, а видать – не угадать. Любит ваш брат писарчук огоньком-то побаловаться. Не сыскать ещё закона против пламени онгона.
– Какой брат? – Никита подозрительно глянул на книгоношу. – Ты про какое пламя онгона, и про какого брата мне лапшу на уши вешаешь?
– Не тот брат, что свят, а тот, что у Царских Врат по тебе рыдат, – пустил слезу офеня. – Коли есть кому молиться – то не курица, а птица…
Пространство вдруг сузилось, загудело, как сквозняк, прорвавшийся сквозь тесное неприютное ущелье в диких горах. И вдруг Никита вспомнил. Вспомнил давно забытый эпизод из детства, невесть как застрявший на одной из полок памяти, пылившийся там до поры, покуда простое ничего не значащее слово, брошенное странным книгоношей-офеней, не вытащило на свет Божий почти совсем забытую картину. В памяти возникла старенькая деревянная, давно не ремонтируемая деревенская церковь, куда водила его бабушка тайком от просвещённых Научным коммунизмом родителей. Увидел как бы со стороны бабушку, совсем не изменившуюся с тех пор, и себя там подле неё, державшегося неуверенно за её юбку. А прямо супротив Царских Врат стоит Данило – деревенский юродивый.
Юродивый был в любой русской деревеньке великой достопримечательностью, потому что слова юродивых всегда были пророческими. Взрослые иногда с опаской, иногда открыто спрашивали у них совета, знали – юродивый наговорами грешить не станет. Только вот мальчишки часто закидывали безобидного молитвенника камнями, дразнили: «Данило-косорыло», улюлюкая и пританцовывая на все лады. А он не обижался. Лишь пугал иногда:
– Вот я вас!
Мальчишкам же деревенским только того и надо было. Травля продолжалась до тех пор, пока кто-нибудь из взрослых не разгонял пацанят или подвернувшаяся сердобольная хозяюшка не уводила юродивого к себе в избу.
Здесь же, в церкви, Данило стоял впереди всех прихожан, истово крестился, по его бородатому лицу текли слёзы. Это было заметно издалека и так поразило мальчика, что ему стало жалко не столько юродивого, роняющего слёзы, сколько себя, потому что ничем не мог он утешить боль человека.
Никита долго следил за ним, прячась за бабушку, всё также держась за её юбку. Потом, решившись-таки, бочком-бочком подобрался к Даниле, подергал за рукав меховой кацавейки, которую тот не снимал даже летом и потихонечку, чтоб никто не услышал, спросил:
– Данило, а, Данило. Ты чё ревёшь?
Юродивый оглянулся.
– Молюся я. Молюся, что б душеньки вы свои в огонь не бросали. Молюся я… ежели пламя онгона в душе разгорится, ничем ты его, малец, не потушишь. Не спеши сгореть вживе, не для того тебя Бог на землю отправил…
– Да, позагорбил басве слемзить: рыхло закурещат ворыханы.[11 - Да, не успел тебе сообщить, утром запоют петухи (феня коробейников)] У кого душа чиста, ты скажи, Никита-ста?..
Никита поднял глаза, но книгоноша уже растаял в толпе, словно клочок петербуржской белой ночи, похожей на из-поддизельный выхлоп, занесённый нечаянным ветром в столицу. Всё ещё пытаясь высмотреть офеню среди разношёрстных любителей поэзии, Никита выплеснулся на свободный пятачок булыжной мостовой, однако коробейника нигде не было. И странная фенька офени повисла на ушах непереведённым предупреждением. А о чём хотел предупредить книгоноша? И хотел ли? Может, вся его фенька как раз рассчитана на падучих купчих?..
– … чтобы душеньки свои в огонь не побросали.
Не успел Никита избавиться от наседающего образа кафтанного офени, как на глаза попался художник, вывесивший свои гравюры прямо на проволочном стояке, смонтированном посредине бульвара. И всё ничего, художников, книгонош, матрёшечников, гимнастов, бардов и прочего артистического добра на Арбате хватало. Этот же обратил внимание на себя, то есть, на свои графические работы, явной небывальщиной.
Шёл первый год нового столетия, однако нигде ещё Никита не встречал таких гравюр, разве что когда-то с удовольствием просматривал чёрно-белый стиль Дюрера или же Обри Бердслея. Только эти господа давно уже отошли в мир иной, оставив после себя удивительные гравюры. Но в новом веке не должно было возникнуть никого из таких художников, владеющим проникновением в самые сокровенные углы человеческого сознанья с помощью одного-двух штрихов послушной туши. Просто не модно среди художников выставлять своё творчество со стороны откровенности. А вот этот не испугался…
На одной из гравюр бы изображён человек, держащий в руке, вывернутой за спину, то ли кисть, то ли кривую стрелу, украденную у Амура. А, может быть, сам Амур поселился в теле этого художника. Рядом с фигурой красовалась надпись: Александр Лаврухин. Видимо, картина была визитной карточкой художника, стоявшего неподалеку и с приветливой улыбкой следившего за Никитой.
– Александр Лаврухин – это вы? – поинтересовался Никита.
– Мне кажется, других поблизости не наблюдается, – весело рассмеялся художник. – Вижу, вам понравились мои работы, или я ошибаюсь?
– Нисколько не ошибаетесь, – уверил его Никита. – Только я давно уже среди современных художников не встречал ничего подобного. Вероятно, есть где-то кто-то, но так чувственно улавливать человечью суть мог до сих пор только Обри Бердслей, но и он, кажется, недолго на свете прожил.
– Просто не дали, – усмехнулся художник. – У каждого человека в этом мире есть определённая задача: каждый должен открыть свою дверь, на то он и человек. А вот сможет ли закрыть – вопрос уже другой. Сперва стоит подумать, стоит ли закрывать, если надумал раскрыть?
– Это, по вашему предположению, удел каждого?
– Во всяком случае, творческие люди, решившие подарить этому миру, скажем, слово своё и оставить после себя поучительные опусы, обязаны решать, надо ли миру такое поучение? – опять с усмешкой, но уже довольно ядовитой, заметил Лаврухин. – А про нас, художников или музыкантов, и говорить нечего. Какой же ты мастер, если не сможешь доставить окружающим радость выполненными работами, хоть на несколько минут в этой призрачной жизни?
Художник посмотрел в глаза Никите и того чуть не хватил психический удар, поскольку Александр Лаврухин оказался точной копией только что пристававшего книжника-офени! Разве что у арбатского вились вокруг лица длинный волосы, а подбородок украшала аккуратно постриженная бородка. Но лица художника и офени были настолько схожи, что Никита сразу не смог даже ничего сказать. Лишь помотав головой, он всё-таки решился:
– Послушайте, Александр, у вас нет случайно брата? Я буквально несколько минут назад видел вон там, – Никита для наглядности указал пальцем в начало Арбата, – видел точно такого же человека, торгующего офеню-лотошника. Если вас поставить рядом, можно сказать, – близнецы!
– Вы, скорее всего, ошиблись, – пожал плечами Лаврухин. – Просто этот офеня чем-то сумел поразить, вот вам и кажется нечто похожее. Но мне интересно, какая же из моих работ вас затронула?
– Вот эта, – ткнул пальцем Никита в занимательный графический рисунок.
На нём была изображена женщина, сидящая в позе лотоса. Но художник умудрился зарисовать даму в профиль. Причём, вся фигура женщины под взглядом рисовальщика оказалась прозрачной и внутри фигуры, вместо позвоночника, вытянулась змея, голова которой застыла прямо в мозгах под причёской дамы. Никита и раньше слышал про энергию Кундалини, начинающейся в конце позвоночника, там же, где находился хвост змеи. Но данная энергия раскручивается снизу по телу человека как спираль вокруг позвоночника. На рисунке змея в теле женщины также обладала спиралевидными отростками, как будто дерево – веточками.
– Ах, вот что, – улыбнулся художник. – Когда я изобразил женщину под таким ракурсом, то был поражён мыслью посланной мне из подпространства. А ведь из этого и состоит каждый человек. То есть, внутри личности растёт дерево, связывающее все физические основы человеческого тела. То же самое представляет собой дерево мира, по которому даже певец Боян путешествовал, о чём сказано в «Слове о полку Игореве».
– А почему у вас в голове женщины находится голова змеи? – поинтересовался Никита.
– Видите ли, человеческий позвоночник действительно похож на ось мира, на его мизерную копию, – начал объяснять Лаврухин. – Недаром во всех странах деревом мира считалась обыкновенная акация: именно это дерево выросло вокруг тела Осириса, именно из веток акации был сплетён «терновый венец» для Иисуса, именно из этого дерева Моисей сколотил себе ковчег. Человеческий позвоночник тоже похож на структуру акации. А голова змеи, как я думаю, тот самый плод дерева, зарождающийся в сознании матери. Если женщину преследуют плохие мысли в момент зачатия, то плод, созревший в голове, падает в её утробу и поселяется в теле ребёнка. Ведь человек до сих пор не может понять, откуда у детей возникают неизвестные слова, понятия, действия, доброта или наоборот – жуткая агрессивность. Казалось бы, человек ни в коей мере не должен родиться плохим, однако, многие дети вместо «мама» говорят «дай». У этой женщины, пришедшей ко мне ниоткуда, родится ребёнок с головой змеи: с ранних лет умненький, даже мудрый, чуть ли не гениальный, но в любой момент готовый ужалить любого, кто окажется поближе. Нечего, мол, со мной сюсюкать и растекаться лужей по паркету.
– Сколько стоит эта картина, – спросил Никита, поскольку решил подарить картину Ляльке. Пусть думает, каким может родиться у них ребёнок, когда настанет срок.
– Знаете, – художник на несколько секунд замолчал. – Знаете, я вам эту картину просто дарю, потому что вы первый за сегодняшний день, с таким вниманием отнёсшийся к моим работам.
Лаврухин снял с плетёного стенда гравюру, завернул в чистый лист бумаги и протянул понравившемуся ему собеседнику. Никита растерянно принял подарок, распрощался с художником и побрёл дальше. Мысль, что офеня и художник-график похожи, как братья-близнецы, опять закрутилась в пустой голове, подгоняемая фразой, брошенной юродивым в детские годы: «…чтоб душеньки свои вы в огонь не побросали…».
О, сколько раз уже приходилось делать это, сталкиваться с вездесущим пламенем онгона. Сколько раз, начиная с тех времён, когда книги только-только стали овладевать сознанием, лепить характер человеческий, или характерного человечка, испепеляющий онгон проникал в тело, сознанье, душу? Сколько раз хозяйничал супротив воли? А!.. всё равно…
Но откуда этот залежалый офеня – продукт явно не двадцать первого века – откуда он что-то знал про Никиту?.. откуда Александр Лаврухин?.. нет. Просто какое-то дикое совпадение. Всё это ерунда на постном масле.
Размышляя так и заставляя себя не думать, не вспоминать о куче сгоревшей бумаги в секретере Никита брел по Арбату в толпе гуляющих, число которых на этом клочке Москвы никогда не убавляется.
Художники, портреты, барды, палатки, продавцы, попрошайки – всё смешалось в одну разноцветную карусель, даже слишком весёлую, чтобы быть настоящей. На углу разбитные девчонки-протестантки, размахивая флажками с трехцветной российской демократией, протестовали против очередной войны, развязанной американцами, своеобразным парафразом известной фронтовой песни: «… а Бушу яйца-а-а оторва-али, несли с пробитой головой».
За столиками, стоящими прямо посреди улицы, сидела шумная студенческая компания и с достойной всяческого уважения актуальностью уничтожала то ли «Баварское», то ли «Балтику» третий номер, но под непременные креветки, поцелуи и тосты. Естественно, где-то сбоку притулился всамделешний гитараст с нехитрым музыкальным инструментом своим, да только с музыкой у него как-то не получалось. Но это никого не интересовало.