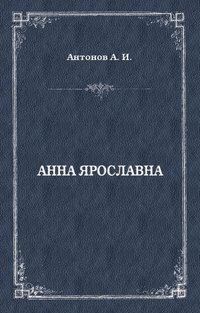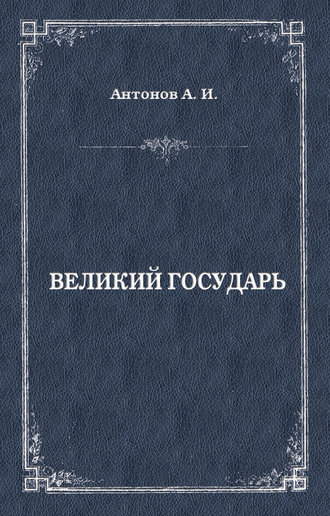
Великий государь
Мысль о детях всегда глубоко ранила Филарета. Одних уже не было в живых, умерли во младенчестве, другие – неведомо где. О двух дочерях до него так и не дошли никакие слухи за время пребывания в монастыре. Сумеет ли он собрать их под свое крыло, как вернется из ссылки? Еще Филарета волновало разорение. Ежели ему не вернут того, что силою отторгнул-изъял Борис Годунов, то он – нищий.
Много загадочного и неразрешимого возникало перед Филаретом в последние дни жизни в обители. Не было у него и ответа на главный вопрос: встанет ли на российский трон царевич Дмитрий? Не благословил ли Борис Годунов на царство своего сына Федора? Ой как не желал последнего Филарет. И с нетерпением ждал из Москвы новых вестей. А их все не было и не было. Но вот в день Радуницы – поминовения усопших – пришли в монастырь богомольцы и поведали то, чего так боялся Филарет. Они принесли весть о том, что сына Бориса Годунова, семнадцатилетнего Федора, венчали на царство.
Филарет сник духом. Не ждал он себе милости от младшего Годунова, да больше от его окружения. Надо думать, считал Филарет, Семен Годунов останется при власти и за ним – Разбойный приказ.
Но после богослужения и поминовения усопших к Филарету на исповедь подошел молодой торговый гость, сживыми карими глазами и, как показалось Филарету, очень похожий на десятского Матвея. «Не сын ли стрельцам?» – подумал Филарет. И не ошибся.
– Отец преподобный, батюшка мой, десятский Матвей, шлет тебе низкий поклон, – тихо прошептал он. – Велено тебе передать, чтобы ждал скорого облегчения. Царевич Дмитрий стоит в Серпухове.
– Вести отрадные. Спасибо, сын мой. Да хранит тебя Господь в пути и в ночи. Как твой батюшка мается?
– Истинно мается. Матушка и два моих братца да три сестрицы от моровой язвы умерли в голодные годы. А батюшка постригом озабочен, от мирской маеты уйти надумал.
– А ты как?
– Дай Бог долгих лет жизни тетушке Катерине и дяде Сильвестру. Их заботами в Казани торговому делу учился при владыке Гермогене.
– Как он, достойный воитель?
– В силе пребывает и в Москву отбыл.
Филарет был благодарен судьбе за то, что послала ему Антона, будто родного человека встретил. И провожал его с грустью. А после отъезда Антона две недели никаких новых вестей не приходило. Да была надежда у Филарета на то, что их принесут богомольцы на день Святой Троицы – праздник Пятидесятницы – явления Духа Божия в церкви. К сему дню стекались православные христиане из многих селений северной земли, расположенной на сотни верст от монастыря. Филарет корил себя за то, что ждал богомольцев с нетерпением, но избавиться от него не мог.
И пришел День Святой Троицы, большой Господень праздник. Было погожее солнечное июньское утро, северная природа торжествовала. С полуночи три больших лодки-завозни едва успевали перевозить жаждущих помолиться Господу Богу, Сыну Божьему и Святому Духу. Среди богомольцев вновь был Антон. Он сходил за товарами в Тверь и принес оттуда короб вестей. Филарет не стал ждать часа исповеди, а позвал Антона в камору за алтарем, там приласкал и спросил:
– Чем порадуешь, сын мой?
– Скажу, отец преподобный, прежде одно: царевича Дмитрия уже царем величают. Многие бояре и иншие вельможи ходили в Серпухов и там крест ему целовали. Еще добавлю к сему: те же бояре, а допрежь Прокопий Ляпунов рязанский, руки приложили к царю Федору и живота его лишили. С ним и царицу Марию, еще боярина Семена. Нет их ноне в живых, Царство им Небесное. – И Антон перекрестился.
– Царство Небесное, – повторил Филарет, осмысливая новину. Да ощутил боль: зачем новые невинные души загублены, Федор, Мария. «Едине Создателю, упокой Господи, душу раба Твоего Федора и рабы Божьей Марии», – подумал он. И попросил Антона: – Ты побудь в обители, пока приставы придут. Вместе и вернемся в Москву.
– Многие лета тебе, отец преподобный. – И Антон низко поклонился Филарету. – Вещает сердце, что батюшку здесь дождусь. Он сюда мыслил прибыть.
И прошло еще две недели. А в день празднования всех русских святых в монастырь явилось московское посольство, во главе которого стоял князь Иван Катырев-Ростовский. И привел послов десятский Матвей. Была радость встречи. И были слезы горести по убиенным и сгинувшим в ссылке князьям Романовым. В церкви Пресвятой Богородицы прошло торжественное богослужение в честь освобождения Филарета от опалы. И по просьбе Ивана Катырева-Ростовского игумен Ареф отслужил панихиду по всем россиянам, которых свел в могилы в последние годы Борис Годунов. А потом состоялось прощание монастырской братии с Филаретом. Провожали его с большими почестями. Постарался об этом сам игумен Ареф. Он же сказал вещие слова:
– Вижу тебя, брат мой, первосвятителем всея Руси. И приду в Первопрестольную в день возведения на престол.
Через два дня после праздника Филарет и Ареф свершили постриг Матвея, он занял келью Филарета. И москвитяне покинули Антониево-Сийский монастырь. Расставаясь с обителью, Филарет прослезился. Многое она дала ему в понимании земного бытия, от многого исцелила. Пока плыл по озеру, душа его рвалась обратно. Нечто подспудное подсказывало ему, что он вступал на новый тернистый путь.
Так оно и было.
Глава пятая
Явление слуг сатаны
Над Россией встал новый царь. Он взошел на московский престол 25 мая, в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. О том новый царь не ведал. Да и некогда было ему заглядывать в святцы, потому как был озабочен другим. Он бы и почтил праздник вниманием, собор посетил, если бы не тьма забот. Эти заботы выстроились пред ним в ряд лицами польских взаимодателей и доверенными других лиц, которым новый царь был тоже многим обязан. Одни требовали долг от имени воеводы киевского князя Константина Острожского, другие от имени польского князя Адама Вишневецкого, третьи защищали интересы усвятского старосты Яна Сапеги и пана Юрия Мнишека, будущего царского зятя. Это они устилали коврами путь новому царю от Путивля до Москвы, до трона. И теперь всем им нужно было уплатить долги из российской государственной казны. Да беда не в этом. Новому царю пока не жалко было русского достояния. Он знал, что Россия сказочно богатая держава и ее запасов не исчерпать вовек.
Вступив на московский престол и впервые опустившись на царское ложе, где почивали великие государи, новый царь с трепетом подумал, что эта дерзость ему даром не пройдет, что обман его вскоре всплывет и россияне беспощадно посчитаются с ним. Совесть его не угнетала, потому как он знал, на что идет. Знал и в ту пору, когда обитал в приживалах у добросердного князя Константина Острожского. Он первым принял на себя заботу о царевиче, оттеснив слугу князя, несмышленого Богдана. Еще пребывая в Чудовом монастыре, он открыл, как мылись в бане, истинное лицо инока Григория через крест, о котором всем шишам говорил боярин Семен Годунов. Но сын мелкого дворянина, он был большой пролазой и не побежал уведомлять главу Разбойного приказа, утаил то, что открыл, и ждал своего часа. И сей час настал. Подслушав разговор царевича Дмитрия с Сильвестром в келье, он в тот же день купил на торжище коня и покинул Москву, взял путь на Киев. Добравшись до палат князя Острожского, он повел себя загадочно, не открывал своего истинного лица, лишь сказал: «Зовите меня сын Иванов».
Увидев Дмитрия под опекой Богдана, сын Иванов отшил туповатого слугу от царевича и постарался не допустить Дмитрия до князя, ежели он вернется раньше времени. Он поселил гостя в своей каморе, в большом низком помещении, где жила челядь князя. На другой день к вечеру сын Иванов принес в камору вина, браги и устроил угощение. Сам сын Иванов почти не пил, но щедро поил Богдана и Дмитрия. Когда царевич сник от хмельного и уснул, сын Иванов нашептал Богдану, что перед ними лежит недруг и враг князя Константина. Богдан простодушно поверил. Но когда Богдан отлучился по нужде, сын Иванов снял с Дмитрия крест, скоро собрался в путь и покинул камору. Он пришел на конюшню, оседлал коня и уехал навстречу князю Острожскому, надеясь встретить его на пути из Варшавы. Он ехал сутки не смыкая глаз, не удаляясь от шляха, дабы не пропустить кортеж князя и не разминуться. Судьба оказалась к нему милостива. И когда он уже падал на гриву коня от усталости, появился кортеж князя. Сын Иванов предстал перед воеводой усталый, запыленный, горестный. Он смело поднялся к князю в карету и со слезами на глазах рассказал ему обо всем том, что случилось с ним за прошедшие двое суток, тоном оскорбленного достоинства открылся князю и поведал свою судьбу.
– Милостивый государь, злой рок выгнал меня с твоего подворья. Да будет тебе ведомо, князь, что я, сын Иванов, истинный сын царя Ивана Васильевича Грозного. Вот мой крест, – и он распахнул перед Константином кафтан, исподнюю рубаху, – надетый мне в день крестин. Я покидаю твой двор потому, что там появился самозванец, именем Григорий Отрепьев, сын костромского дворянина, ликом схожий со мной. Он преследует меня всюду. В Москве, в Чудовом монастыре он подслушал наш разговор с ведуном Сильвестром и теперь явился на твое подворье, дабы оговорить меня. – Князь слушал внимательно, не спуская проницательных глаз с лица сына Иванова. Он же стойко выдерживал этот взгляд, и у него не дрогнула на лице ни одна черточка. И князь, считая себя душеведом, поверил, что пред ним истинный царевич. – И я покинул твое подворье, да не мог уехать от тебя, мой благодетель, не простившись.
– Куда же ты путь держишь, царевич? – спросил князь Константин.
– Явлюсь в Варшаву и буду просить защиты у короля Сигизмунда. Верю в его доброе расположение к России и знаю, что он чтил моего батюшку.
– Держать не смею, царевич, а помочь тебе готов, дам провожатых, как подобает, ссужу денег на первый случай и на обзаведение одеждой тебе подобающей.
– Век буду благодарить тебя, дорогой князь, и сторицей верну долг. – И «Дмитрий» поклонился Константину. Потом же, понизив голос, сказал: – Поведаю тебе, князь, малую тайну Отрепьева: он страдает богомильской ересью и всюду сеет ее семена.
– Господи, спасибо, что открыл сие! – воскликнул противник всякой ереси. – Да я живота лишу осквернителя моего подворья! – И заспешил: – Ну, попрощаемся до встречи в Москве! – Князь Константин обнял сына Иванова и трижды поцеловал, смахнул с глаз набежавшую слезу, выбрался из кареты, позвал молодого вельможу и распорядился: – Андрей, возьми с собой двух воинов и денег сто червонцев у казначея и проводи сына Иванова до Варшавы. Там и представишь его государю-батюшке Сигизмунду. Сие есть русский царевич Дмитрий, сын Ивана Великого!
Дворянский сын Андрей оказался расторопным, и спустя несколько минут он и два всадника уже сопровождали сына Иванова.
Бывший писец, служивший в Чудовом монастыре под именем Григория, а в миру Юрий Отрепьев, сын Иванов, был дерзок, хитер и осторожен. Он и не думал пока идти с визитом к королю Сигизмунду, но повернул коня в Сандомир и велел Андрею представить его вначале воеводе Яну Сапеге, а еще вельможному пану Юрию Мнишеку. Так он вскоре оказался под заботливой опекой двух известных всей Польше вельмож. И из Сандомира начался его победный марш к московскому трону.
О судьбе истинного царевича Дмитрия он ничего не знал, не слышал. Да не сомневался в том, что князь Константин Острожский сдержал свое слово. О крутом, а подчас жестоком нраве князя ходили легенды. Сказывали, что в его огромных владениях, в замке, в лесных дачах Полесья сгинул не один десяток иезуитов и иных еретиков, кто утверждал, что Сын Божий произошел не только от Отца Господа Бога, но и от Святого Духа. И о судьбе царевича Дмитрия можно было только гадать. Что и делали все те, кого интересовала его судьба, до наших дней.
У Лжедмитрия судьба складывалась иначе. Пока она благоволила ему. Но это не избавило его от животного страха. И появился сей страх в тот же день, когда переступил порог царского дворца в Кремле. Каждый час, каждый день он боялся разоблачения. Но дерзостью одержимый, он даже подсмеивался над собой: «О, ежели разоблачить до исподнего и дальше, то каждый россиянин скажет, что пред ними человек не царского роду-племени, не от корня Даниловичей, долгой и знаменитой многими подвигами династии российских князей, государей. Скажут, это вор, поправший Христовы заповеди: не убей, не укради, не обмани». Он же все сие совершил, дабы захватить российский престол. Как же дерзнул сей молодой человек с грустно задумчивыми глазами на смуглом лице, с пегой бородкой, некрасивый, роста ниже среднего, с большой сизой шишью близ носа под левым глазом, как он дерзнул захватить великий российский престол? Сие оставалось загадкой.
Но россияне умели разгадывать и не такие хитроумные узоры просто. Они сказали, что сей самозваный царь продал сатане душу, дабы в обмен получить трон и корону русских царей. Вкупе с сатаной чего не достигнешь, утверждали они. И было у них на то основание, потому как нашлись москвитяне, которые видели истинного Дмитрия в услужении у патриарха Иова переписчиком книг. И был он по внешности другим. Они помнили хорошо сложенного, среднего роста юношу с белым цветом лица и темными волосами. Да, возле носа у него была примета, но всего лишь малая коричневая бородавка, а не сизая шишка. Еще говорили очевидцы, что у него были белые длинные кисти рук, речь же была смелой и походка его, манеры держаться носили царскую отлику.
Неприятности для Лжедмитрия начались на второй же день его пребывания в Кремле. Лишь только он появился на Красном крыльце царского дворца, чтобы сказать свое слово москвитянам, как из толпы горожан, подступившей к самому крыльцу, раздался громкий возглас:
– Россияне, сей царь не есть Дмитрий! Царевича Дмитрия я знал, встречался с ним в Чудовом монастыре, как к брату архимандриту Дионисию приходил!
Лжедмитрий растерялся, но царедворцы, стоявшие с ним рядом, защитили его и воодушевили.
– Это поп-растрига, мшеломец! – крикнул князь Рубец-Мосальский. – Повели схватить его и казнить!
И Лжедмитрий велел рындам взять крикуна и отсечь голову принародно, чтобы другим не было повадно ложь измышлять.
Ан москвитяне не дали в обиду астраханского священника, дерзнувшего открыть истинный лик царя. Сплотились перед рындами и не пустили их к смельчаку.
– Грех тебе начинать царствие с казни! – крикнул мастеровой с Кузнецкого моста.
– Ну погодите, я до вас доберусь, смутьяны! – крикнул царь.
Разговор его с москвитянами так и не возник, и царь поторопился уйти во дворец.
А времени добраться до «смутьянов» у Лжедмитрия не оказалось, потому как каждый день до глубокой ночи нужно было присутствовать на приемах, балах и пирах в честь своего воцарения. Еще каждый день он раздавал награды, имения, земли всем новым фаворитам, подписывал дарственные грамоты. Он и не помышлял о державных делах, озабоченный только тем, чтобы угодить своим благодетелям – польским вельможам. Иноземцы католической веры окружили царя так, что никому из русских бояр, князей именитых родов не было к нему доступа. Однако князей Нагих Лжедмитрий не забыл. Ведь там, в Угличе, жила его «мать», царица Мария. Еще Лжедмитрий приблизил к себе князя Федора Мстиславского и князя Василия Шуйского, смирился с их присутствием в своей свите. И еще как-то князь Василий Рубец-Мосальский, фаворит Лжедмитрия с Путивля, выбрав удачную минуту, шепнул царю, чтобы он проявил милость к роду Романовых и их сродникам.
– Или ты запамятовал, царь-батюшка, что Романовы тебе родня по кике? – сказал он.
– Запамятовал, князь Василий. Да видишь сам, какая прорва дел привалила, – бойко оправдался Лжедмитрий. Сам же подумал, что они-то как раз в Москве и не нужны ему.
Однако за род Романовых в эти дни волновался не только князь Рубец-Мосальский, а и москвитяне. И Лжедмитрий подумал об этом, спросил князя Василия:
– Не знаешь ли, куда упрятал их Бориска?
– Допрежь ведаю, где старший Никитич заточен.
– Тогда моей волей шли за ним посольство. А мы тут подумаем, где ему впредь пребывать. – Сердце у Лжедмитрия забилось в тревоге, потому как Никитичи не станут взирать на него так преданно, как взирал князь Рубец-Мосальский.
В тот день, как Рубец-Мосальский собирал «послов» и наставлял их, к Лжедмитрию пожаловал князь Василий Шуйский. И, обуреваемый тайной корыстью, укрепил опасение царя.
– Ты, батюшка царь, вызволи Никитичей и инших Сицких, Черкасских из ссылки, но в стольный град не торопись пускать. Смуты вокруг и без них пропасть. И то пойми, – Шуйский многозначительно поднял палец, – не приведи Господь, ежели у Никитичей возникнут сомнения.
У Лжедмитрия были основания прислушаться к совету князя Василия Шуйского, и он решил все исполнить так, как подсказал хитрый князь.
Князю Катыреву-Ростовскому было поручено доставить старшего Романова во дворец Ивана Грозного в селе Тайнинском, а прочих пока расселить в Ярославле и Твери. А пока князь Катырев-Ростовский ходил в Антониево-Сийский монастырь, жизнь в Москве становилась все более бурной и неуправляемой.
Царь Лжедмитрий уже открыто пренебрегал русским обществом и жил в окружении поляков, литовцев и римских иезуитов. Он вел переписку с польским королем Сигизмундом Вазой, каждую неделю слал письма своей невесте Марине Мнишек, посылал гонцов с благодарственными грамотами папскому нунцию в Польше Рангони. И даже писал самому папе римскому, только что вставшему на престол Павлу V. Он добивался у папы разрешения жениться на католичке Марине Мнишек и, выполняя волю россиян, окрестить ее в русскую православную веру. Вмешательство папы потребовалось Лжедмитрию для того, чтобы укротить неуступчивого митрополита Гермогена, который был против брака Лжедмитрия на католичке. Царь вытащил на свет божий опального митрополита Рязанского Игнатия Грека, нарек его патриархом, при попустительстве которого надумал обмануть русских архиереев при крещении Марины и во время его венчания с полячкой. Игнатий Грек заверил Лжедмитрия, что все сделает, как царь пожелает. Лжедмитрий вновь обрел благодушие, но ненадолго.
Как-то после затянувшегося до глубокой ночи пира царь уже под утро ушел в опочивальню и забылся в тяжелом сне. И явился к нему во плоти польский богослов и философ Петр Скарга. Встал он возле ложа, руку протянул. И Лжедмитрий проснулся, сел в испуге, спросил:
– Кто ты? Что тебе нужное.
– Не пугайся, царь. Я твой духовный отец, – сказал Петр Скарга. – Ведаю, что против тебя умышлен заговор, – начал богослов. – Ноне же арестуй князя льстивого с хитрыми глазами. И братьев его возьми в железа. А как с ними поступать, думай сам. – И Петр Скарга удалился из опочивальни неведомым путем.
Лжедмитрий так больше и не уснул. Он стал перебирать в памяти все лица вельмож, искать среди них того, кто льстил ему без меры и у кого хитрые глаза. Но то лицо, которое грозило ему смертью, не проявлялось… А страх нарастал. Лжедмитрий уже видел, как ворвались во дворец заговорщики, как рвались в его опочивальню, размахивали оружием. Лжедмитрий встал, оделся, саблю в руки взял и затаился у дверей, готовый защищать свою жизнь. Наступил рассвет, царь подошел к окну, дабы посмотреть, нет ли заговорщиков близ дворца. Но двор был пуст. Лжедмитрий прислонился к оконному откосу, закрыл глаза и куда-то поплыл. И в сей миг пред окном возник человек. Смотрел он на Лжедмитрия льстиво и плутовски. И услышал Лжедмитрий голос: «Ты, батюшка, вызволи из ссылки Романовых, но в стольный град их не пускай». Царь открыл глаза и возблагодарил неведомо кого за то, что помог высветить лик заговорщика. И был им князь Василий Шуйский.
Терзаемый страхом, Лжедмитрий поднял стражу, призвал к себе польских воевод, велел им послать в палаты Шуйских солдат и арестовать всех братьев-князей.
Поляки исполняли такие повеления быстро, но попросили, чтобы с ними к Шуйским шел кто-то из русских вельмож и предъявил им обвинение. Лжедмитрий оказался в затруднительном положении: не мог же он обвинить князей Шуйских только на основании того, что пришло ему во сне. И он призвал на помощь князя Рубец-Мосальского. Василий уже давно привык к тому, чтобы выдавать сны за явь, ложь за правду. Он и глазом не моргнул, заявил:
– Ты, государь-батюшка, не сомневайся. Есть злой умысел у князя Василия против тебя. Доподлинно сие ведаю. Он уже давно дорогу торит к трону.
– Вот ты и пойдешь с обвинением, – повелел царь.
Князь Рубец-Мосальский колебался недолго. Рисковый мшеломец, он давно позабыл о понятии чести и благородства. Потому сказал:
– Исполню твою волю государь. – И, помедлив, добавил: – Милость, однако, прояви, Пошехонье мне отпиши за верную службу.
Лжедмитрию эта сделка ничего не стоила, и он с легким сердцем проявил сию милость.
– Иди же за бунтовщиками, а придешь, получишь жалованную грамоту.
В тот же день князей Шуйских взяли под стражу, заключили в пытошные башни. Младших братьев Василия, Дмитрия и Ивана, пороли кнутами, добиваясь признания в заговоре. А князя Василия допрашивал сам Лжедмитрий.
– Ты зачем мне льстил и омывал лицо мое елеем? Говори, что замышлял против меня и кто еще с тобой в заговоре. Да не мешкай, а то братцев засекут в застенке.
Князь Василий молчал, скорбел о братьях и думал, кто предал его. Да, он замышлял заговор, но еще ничего не сделал, чтобы осуществить его. Он вел разговор всякими полунамеками лишь с Федором Мстиславским. Неужели он в поисках корысти себе выдал его? Шуйский так углубился в свои думы, что не слышал, о чем спрашивал Лжедмитрий. Тот, наконец, взорвался и схватил князя за грудь, стал его трясти:
– Что молчишь? На дыбу рвешься? Пошлю! – кричал царь.
Так и не добившись никакого признания, Лжедмитрий покинул пытошные казематы. Вернувшись во дворец, он повелел созвать Земский собор. И мешкать не велел, дал всего два дня на сборы. Россияне посмеивались: месяц надо, дабы кликнуть выборных со всей державы и увидеть их в Москве. И говорили, что все это балаган для отводу глаз. Но обеспокоились за судьбу Шуйских. У именитого боярского рода было немало сторонников в Москве, и они не думали так легко отдать Шуйских на расправу бессудную.
Однако подобие земского собора вскоре сошлось на первое заседание. Это были в основном московские вельможи, преданно служившие Лжедмитрию. Царские угодники смотрели ему в рот, когда он с пылом говорил про заговор и про то, как Господь помог ему уличить Шуйских.
– Вот и спрашиваю вас, земцы, какого наказания достойны тати, задумавши покушиться на жизнь законного царя?
Дабы угодить царю, «земцы» приговорили Шуйских к лишению живота на плахе. И скорая бессудная расправа над князьями Шуйскими свершилась бы. Но вмешались священнослужители. Большим клиром пришли они в Грановитую палату, где заседали земцы, и привел их за собой митрополит Гермоген. Он же пригрозил Лжедмитрию поднять москвитян в защиту оговоренных князей Шуйских.
– Нет у тебя воли, государь, российские корни рубить, – подойдя к трону и стукнув посохом, сурово сказал Гермоген. И продолжал: – Церкви судить Шуйских, а не угодникам. Милуй сей же час, не жди себе худа, пока народ во гнев не пришел. – Гермоген подошел к окну, распахнул его. – Слышишь, как гудит Красная площадь?
В палату и правда хлынул шум, похожий на рокот моря. Да и под окнами палаты уже собрались толпы москвитян. И дрогнул Лжедмитрий, знал, каковы россияне, когда поднимаются на бунт: все сметают на своем пути. Сказал митрополиту Гермогену:
– Иди утихомирь народ, а мы тут подумаем.
– Нет, один не пойду. Идем вместе, государь, и ты сам скажешь россиянам, что отменяешь смертную казнь.
К Лжедмитрию подошел князь Рубец-Мосальский и еще кто-то из царедворцев. Они шепотом говорили что-то царю, убеждали его, а он на глазах у Гермогена побледнел, поднялся с трона и пошел к выходу, появился на Красном крыльце Грановитой и крикнул:
– Россияне, с чего бунтовать вздумали?! Вот, говорю вам и вашему Гермогену, что Шуйских милую, живота их не лишаю, но отправляю в ссылку, дабы Москву не мутили. Идите же на Красную площадь и там скажите люду, чтоб шел по избам. – И повернулся к Гермогену: – Видишь, я крови не ищу. Теперь им говори и ты в ответе за покой в Москве. – С тем и покинул Красное крыльцо.
Гермоген же следом поспешил.
– Ты, государь, будь милосерден во всем. Посему дай повеление служилым пустить в Москву Романовых и инших опальных от Годунова. Зачем свою опалу накладываешь?!
Лжедмитрий побаивался казанского митрополита, которого и Годунов боялся, и пошел на уступку.
– Я подумаю о них. Да не подталкивай меня. – Лжедмитрий сказал это искренне. Романовы, и особенно Федор, очень беспокоили его. Знал царь, что одного слова Федора, сказанного с Лобного места, будет достаточно, чтобы москвитяне стащили его с трона. И после долгих раздумий, колебаний Лжедмитрий решился на встречу с Федором, дабы заручиться его поддержкой или хотя бы молчанием.
Через три дня Лжедмитрий в сопровождении малой свиты и отряда польских драбантов покинул Москву. Знал царь, что Филарет Романов уже пребывал в селе Тайнинском, как и было ему намечено. На беседу с Филаретом царь ушел один. И никто не знал, о чем Лжедмитрий и Филарет беседовали. Покидая Тайнинское, Лжедмитрий выглядел расстроенным. То, что Филарет не стал допытываться, как и почему он, Отрепьев Григорий, захватил трон не по праву, это Лжедмитрия порадовало. Выходило, что признавал его царем. Но словно в уплату за признание потребовал вернуть Шуйского с пути в ссылку, отдать имущество и восстановить в чинах и званиях. Лжедмитрий пообещал выполнить волю «сродника», но и Филарета вынудил на уступки.