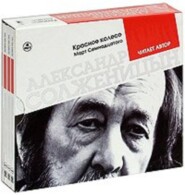По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 1
Жанр
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Была уверенность, что порядок завтра будет водворён. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи, с Гороховой разъехались по спящему, мирному полутёмному городу.
А заседания Совета министров в этот день вообще не было: они обычно собирались по пятницам, значит завтра.
8
Ольда. – Шапка для боярыни. – Сам открыл?.. – Сквозь ночь вопросы и ответы.
Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза – увидишь грубо беленную стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но всё ж не задутом, а постепенно укачавшемся, усмирившемся, а с ним и все тени очертились определённо по стенам. И – полно и глубоко под морозными звёздами молчание Мустамяк, самого далёкого, глухого петербургского дачного места.
Эта старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают, так и не подсохла хорошо, ещё не прогрелась от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сидении тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днём – Георг не открыл главного, от чего решительно менялась вся обстановка.
Ещё они ходили гулять под лёгким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью, и Ольда как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвясь «ты», или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки, – так что её любимые старички предположить не могли, что Ольда Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. «Sic itur ad astra!»[1 - Так идут к звёздам (лат.).] – повторял Воротынцеву старичок своё первое суждение о первой книге Андозерской.
Женщина выдающихся качеств, как Ольда Андозерская, имеет свои особые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатили лучшие её годы, и за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные её. А ещё стесняло – само профессорство: не спутник для женщины тот, кто ниже её. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольда любила и вслух повторяла Марину Мнишек:
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь – не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгких мужа.
Покрыть голову не той короной – это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой.
И Ольда Орестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда, а приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и льстящей броне она и ходила посегодня – но втайне знала, что внутри неё вот посквозило неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнующий запах старых книжных корешков (а раскроешь книгу – удар запаха! потом он слабеет, но всё ещё уловим) – в самые счастливые часы работы, стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она – одна, одна. Столь несомненно превосходная – но и никем не доискиваемая?..
В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилия не понадобилось, так радостно и послушно он пошёл, – даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности, – резвый, необструганный. Как деревенский парень смышлёный, за пахотой не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого «Г» – только коса, а «С» – серп, не буквы, а подучить его – уже б и гимназию кончал. Но он занял те осенние шесть дней её так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чём угодно – о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете, – только обминул спросить о самой женской жизни её, как бы вообще не предполагая этой стороны, – всё из той же неграмотности?
Ольду тоже затянуло тогда, но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие, – а представить себя открыто связанной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал, писал хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы всё больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг, и свой собственный озноб начинал бить явственней, – и Ольде вдруг так просто уяснилось: вот именно он бы и был ей муж! Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен: а как он соотносится с профессором Андозерской? – и если мельче, значит, вышла по безвыходности. А боевой полковник? никому и в голову не придёт прикладывать эту мерку, все примут как её чудачество: выйти за офицера! Если на маленькую голову её, начинённую мыслями, не находилось точёной короны – пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи.
И она звала его – приехать сейчас в Петербург. И, ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в её тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетёсаной увальности ещё сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдёт не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой, это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно.
Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог, – он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках перед распахнутой печной топкой, как перед камином, всё клали, всё клали дрова и не сводили глаз с огня, в благодатном пышеньи его. Рядом с Георгом Ольда весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал её, складывал, изгибал, всю забирал, играл с её волосами, то распушивал вкруг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом, как в пену. И вдруг – рассказал…
Изумительная своеродная тупость! Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть (хотя, видно, побаивался), а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далёком доме у пляшущего огня. Рассказал, что ещё тогда, в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей…
Как? То есть – как? Сам? Без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он (сладко у сердца, котёнок в незнакомых руках) уже тогда, в неделю готовый, начать расставание с женой? Он объявил ей своё решение? Нет… Так тогда – зачем же?
Обрушилась крыша, выбило стекло, морозный воздух тёк на них через пролом, уже не действовали больше законы огня, – а он так-таки ничего не понимал, для него ничего не изменилось, всё так же тянул её к себе на колени.
Но из котёнка отяжелев в утюг клиновидный, Ольда осела, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять: что он имел в виду, когда объявлял жене? (Трудней всего было добиться.) И как вела себя жена? И как потом он? И опять она?.. Оказалась тут долгая история, Ольда сжигалась, а Георг не мог точно всё рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что за чем шло и кто точно как говорил, он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу…? Да всё потому же. И – долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва тогда в октябре и до его сдачи…
– Какой сдачи?
…как изменилось его соотношение и с женой и с Ольдой, он понимает?
Нет, честно: не понимал, ничего не изменилось.
Не изменилось, если он никогда серьёзно об Ольде не думал.
А в этом письме жены, тогда в Ставку…? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно! Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжём лампу. И опять – за стол. О, как томительно. Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы, и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилёва? Ну, вот этого, убей, никогда не помню, написал и тут же отвалилось, я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в восемь лечь, смотри – второй час ночи. Ну что об этом, прошлом, – опять и опять?
Спать, спать, он влёк её и согревал, сам искренне не изменясь и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут уже, у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно, так что и верчение ольдиной безсонницы нисколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения.
И вот ночные часы, уже выныривающие к утру, Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, всё более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом и во сне его решала его будущее, даже безповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход.
Двадцать четвёртое февраля
Пятница
9
Простак Воротынцев. – Как на вечной войне. – Ничего, всё в мире исправимо.
– Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты естественно уезжал на фронт – и хорошо. Зачем же ты завёл с ней разговор?
Не отвечал, не шевелился почти.
– Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал проясниться, окрепнуть собственному чувству. На это немало времени надо, но оно у тебя как раз было. А ты сам оттолкнул его.
Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался.
– Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничьё другое. А ты всё вручил ей, как она решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей.
Ну, не очень-то. Он только…
– Как же нет? Смотри сам… И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать безпристрастно.
Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно.
– Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться – должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам – тогда бы объявили ей.
Ну, может быть, это тоже не совсем честно…
– Дорогой мой, мы – нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что… Но и не так же быстро! Мы себя обокрали, чего-то у нас теперь нет, и нужно время, чтобы это восполнить.
Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью.
– А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум.
Ультиматум? Никакого.
– Да вот то письмо! Самый настоящий ультиматум: немедленно выбирай! Одну из нас не увидишь!
– Да какой же это ультиматум, Ольженька? Это просто – раненый крик.
– Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством, – вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она – в выигрышном положении: у нас с тобой только розовое начало…
Нет, алое! – это не словами…
– …ещё никакого прошлого, – а у вас там десять лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых, вырваться кажется невозможным: всё крушить? ломать? всем объяснять?