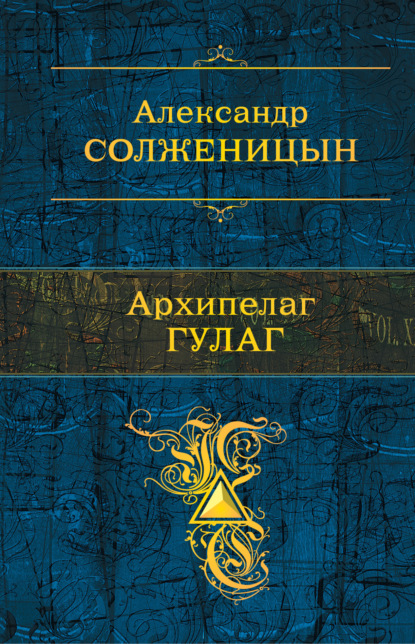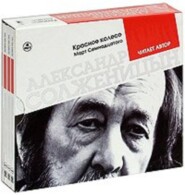По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Архипелаг ГУЛАГ
Год написания книги
1975
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, – и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.
Само собою, последние годы войны шёл поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.
В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военно пленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольший срок.)
С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, – по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов – стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёргали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, – не трогали.) Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше – из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.
Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)
Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) – иногда убеждённых, иногда невольных.
Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны – гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946–47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки[26 - Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, – тайна именно этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами – воистину, последняя тайна Второй Мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 (Sunday Oklahoman, 21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют… Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Английские же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? – Примеч. 1973 г.].
Какое-то число поляков, членов Армии Крайовой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.
Сколько-то было и румын и венгров.
С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).
На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:
– «девушки за иностранцев» (1946–47) – то есть давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7-35 (социально-опасные);
– испанские дети – те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй Мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7-35, социально-опасные, а особенно настойчивым – 58-6, шпионаж в пользу… Америки.
(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток… священников. Да, вот чудо! – первый раз за 30 лет освобождали священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места – тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восставляемой Церкви.)
* * *
Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, – а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков и собственно уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его – в 1922 году, но и все 20-е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).
Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всём законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.
Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей, – нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то – только убийцами, то – самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный Указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.
Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение «экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев – 75 трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)
Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или «семь восьмых», закон, по которому обильно сажали – за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток») – всё на десять лет.
Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И опять, пренебрегая Кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, – 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре шестых».
Превосходство нового Указа, во-первых, в его свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обезпечиться обильный поток новоосуждённых. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками – несколько двенадцатилетних пацанов, – они получали до двадцати лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (самый этот срок, четвертная, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую[27 - А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года, в январе 1950.]). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, – теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.
В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.
* * *
Эта новая линия Сталина – что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, – тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.
1948–49 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников.
Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947–48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли – в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.
И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее – весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» – «Я». – «Получите ещё десять».)
Тут хватился Единодержец, что это мало – сажать уцелевших с 37-го года! И детей тех своих врагов заклятых – тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может, поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули – сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских – не сплошь! И потянулся поток «детей-мстителей». (Попадали в таких детей 17-летняя Лена Косарева и 35-летняя Елена Раковская.)
После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.
И потянулись в 1948, 49-м и 50-м:
– мнимые шпионы (десять лет назад германо-японские, сейчас англо-американские);
– верующие (на этот раз больше сектанты);
– недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты;
– просто интеллигентные думающие люди (а особо строго – студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:
ВАТ – восхваление американской техники,
ВАД – восхваление американской демократии,
ПЗ – преклонение перед Западом.
Сходные были с 37-м потоки, да несходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.
Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричёнка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия за ключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали 15 лет.
Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый сгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западно-украинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён – им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей доконать мужей.
Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обезпечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)
В 48-м году прошёл в ссылку ещё один национальный поток – приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные – в политизоляторы.
А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными – потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.
В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты). Для того было затеяно и «дело врачей». Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.
Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог – похоже, что руками человеческими, – выйти из рёбер вон.
Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.
Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.
Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.
И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.
Само собою, последние годы войны шёл поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.
В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военно пленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольший срок.)
С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, – по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов – стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёргали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, – не трогали.) Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше – из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.
Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)
Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) – иногда убеждённых, иногда невольных.
Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны – гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946–47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки[26 - Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, – тайна именно этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами – воистину, последняя тайна Второй Мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 (Sunday Oklahoman, 21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют… Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Английские же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? – Примеч. 1973 г.].
Какое-то число поляков, членов Армии Крайовой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.
Сколько-то было и румын и венгров.
С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).
На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:
– «девушки за иностранцев» (1946–47) – то есть давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7-35 (социально-опасные);
– испанские дети – те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй Мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7-35, социально-опасные, а особенно настойчивым – 58-6, шпионаж в пользу… Америки.
(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток… священников. Да, вот чудо! – первый раз за 30 лет освобождали священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места – тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восставляемой Церкви.)
* * *
Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, – а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков и собственно уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его – в 1922 году, но и все 20-е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).
Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всём законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.
Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей, – нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то – только убийцами, то – самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный Указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.
Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение «экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев – 75 трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)
Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или «семь восьмых», закон, по которому обильно сажали – за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток») – всё на десять лет.
Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И опять, пренебрегая Кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, – 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре шестых».
Превосходство нового Указа, во-первых, в его свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обезпечиться обильный поток новоосуждённых. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками – несколько двенадцатилетних пацанов, – они получали до двадцати лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (самый этот срок, четвертная, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую[27 - А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года, в январе 1950.]). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, – теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.
В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.
* * *
Эта новая линия Сталина – что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, – тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.
1948–49 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников.
Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947–48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли – в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.
И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее – весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» – «Я». – «Получите ещё десять».)
Тут хватился Единодержец, что это мало – сажать уцелевших с 37-го года! И детей тех своих врагов заклятых – тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может, поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули – сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских – не сплошь! И потянулся поток «детей-мстителей». (Попадали в таких детей 17-летняя Лена Косарева и 35-летняя Елена Раковская.)
После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.
И потянулись в 1948, 49-м и 50-м:
– мнимые шпионы (десять лет назад германо-японские, сейчас англо-американские);
– верующие (на этот раз больше сектанты);
– недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты;
– просто интеллигентные думающие люди (а особо строго – студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:
ВАТ – восхваление американской техники,
ВАД – восхваление американской демократии,
ПЗ – преклонение перед Западом.
Сходные были с 37-м потоки, да несходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.
Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричёнка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия за ключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали 15 лет.
Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый сгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западно-украинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён – им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей доконать мужей.
Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обезпечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)
В 48-м году прошёл в ссылку ещё один национальный поток – приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные – в политизоляторы.
А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными – потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.
В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты). Для того было затеяно и «дело врачей». Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.
Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог – похоже, что руками человеческими, – выйти из рёбер вон.
Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.
Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.
Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.
И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.