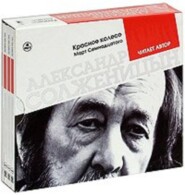По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Архипелаг ГУЛАГ. Книга 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То есть прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше – из-за того что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него); надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу (даже если ты не выспался, ожидая ночного стука); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали триста граммов).
И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.
Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но – в другую сторону, в другую сторону! – вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!
Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями – они учили ваших детей.
Но соотечественники (особенно пенсионеры МВД и КГБ, этакие лбы, ушедшие на пенсию в сорок пять лет) подступают ко мне с кулаками: я кого защищаю? бургомистров? старост? полицаев? переводчиков? всякую сволочь и накипь?
Что же, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей как на палочки. Всё равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах.
Заиграли, запели «Пусть ярость благородная…» – и как же не зашевелиться волосам? Наш природный – запретный, осмеянный, стреляный и проклятый – патриотизм вдруг был разрешён, поощрён, даже прославлен святым, – и как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно-взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам – перед подходом палачей закордонных? А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружней и неистовей проклинать изменников – таких явно худших, чем мы, злопамятных людей?
Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А – предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.
Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе – и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей.
Откуда они? Почему?
Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора – и выбрали так[4 - Они не хлебнули с нами Тридцатых годов, и издали, из Европы, им легко было восхититься «великим патриотическим подвигом русского народа» и проморгнуть двенадцатилетний внутренний геноцид.].
Эти же десятки и сотни тысяч – полицаи и каратели, старосты и переводчики – все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.
Что же их заставило?.. Кто это такие?
А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле – к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну. (Другое дело – дачные майораты офицеров Советской армии да обзаборенные подмосковные поместья: это – нам, это можно.) Да ещё кого-то хватали «за стрижку колосков». Да кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом (мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто).
Обо всех таких у нас говорят (а сугубо – агитаторы, а трегубо – напостовцы-октябристы) с презрительной пожимкой губ: «обиженные советской властью», «бывшие репрессированные», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской власти».
Один скажет – а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порок, главная язва: обиженные… затаившие…
И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-то, в конце концов, – определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?
Ещё так у нас умеют говорить с лёгкой тенью на челе: «да, были допущены некоторые ошибки». И всегда – эта невинно-блудливая безличная форма – допущены, только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать: коммунистическая партия допустила! безсменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? – надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил – так вы-то где были, руководящие миллионы?
Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как-то быстро в туманное, неясное, безконтурное пятно и не числятся уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, – так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, – так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да «за Русь Святую» остановили немца на Волге, – так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.
За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения – со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где ещё дымились выстрелы от расстрелов Пятьдесят Восьмой.
Пока была наша сила – мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость – мы тотчас же потребовали от них забыть всё причинённое им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря – и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать Родину не щадя живота. (Но не мы должны были перемениться! И никто не обнадёживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать.)
При таком положении чему удивляться верней – тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей? Или ещё слишком мало? (А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например над доносчиками советского времени, – как расстрел дьякона Набережно-Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких.)
А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы – и стали церкви открывать. (Наши после немцев закрыть сразу постеснялись.) В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да?
В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича Малявко-Высоцкого, он умер в следственной камере, жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста, – и только с приходом немцев спокойно легла спать: «Теперь-то по крайней мере высплюсь!» Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей.
В мае 1943, при немцах, в Виннице в саду на Подлесной улице (который в начале 1938 горсовет обнёс высоким забором и объявил «запретной зоной Наркомата Обороны») случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы – и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3х4 метра. В каждой могиле находили сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные «валетами». Руки у всех были связаны верёвками, расстреляны были все – из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938 осуждён «на 10 лет без права переписки». Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше – больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища – у больницы Пирогова, и открыли ещё 42 могилы. Затем – Парк культуры и отдыха имени Горького, – и под аттракционами, «комнатой смеха», игровыми и танцевальными площадками открыли ещё 14 массовых могил. Всего в 95 могилах – 9 439 трупов. Это – только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А – в остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в советские партизаны?
Может быть, справедливо допустить наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, – так больно и тем, кого топчем мы? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или – нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?
Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врождённую злобу – а злобу-то посеяли мы в них сами, это же наши «отходы производства». Как это Крыленко произносил? – «в наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы»[5 - Н. В. Крыленко. За пять лет. 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923, с. 337.]. Вашей системы, товарищи! Надо своё Учение помнить!
А ещё не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шёл на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно безкорыстные и лично не задетые, у которых имущества никакого не отнимали (у них не было ничего) и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе; от преследования убеждений; от песенки этой глумливой:
где так вольно дышит человек;
от поклонов этих богомольных Вождю; от дёрганья этого карандаша – дай скорее на заём подписаться! от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха? (Обвиняли на следствии отца Фёдора Флорю – как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях. Он ответил: «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал – то и говорил. Что было – то и говорил». А по-советскому: лги, душою криви и сам погибай – да только чтобы власти на выгоду! Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?)
Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем как мне уйти в армию, в посёлке Морозовске, на следующий год взятом немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами – бездетной четой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет шестидесяти, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне всё чудится на нём пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Ещё тише и мягче была его жена – блекленькая, со льняными прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже немолодая. Они были нам милы, вероятно, и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьёй.
Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие тёплые лунные вечера, ещё не разорванные гулом самолётов и взрывами бомб, но для нас тревога немецкого наступления наползала, как невидимые, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар посёлка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых ещё долго потом молчало Информбюро, боявшееся правды для народа. (О таких городах Броневицкий говорил не «сдали», а «взяли».)
Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умней, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими: всё, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия.
А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодёжи. Мы только что прожили Тридцатые годы – и как будто не жили в них. Они спрашивали нас, чем запомнились нам 37–38-й? Чем же! – академической библиотекой, экзаменами, весёлыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время? Да, верно, двух-трёх посадили, кажется. Их заменили доценты. А студентов – не сажали? Мы вспомнили: да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же?.. Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого н-н-не… тронули?.. Да нет…
Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодёжи, ни – из маньяков, упёртых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро – с десятилетнего возраста, я сопляком уже не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, – но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы (они казались грандиозными) – с качением огромного давящего колеса по стране (число его жертв было как-то незаметно). Я детство провёл в очередях – за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: «временные трудности». В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали – но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах.
А в газетах так выглядело всё безоблачно-бодро.
А молодому так хочется принять, что всё хорошо.
Теперь я понимаю, как Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку, и лагерь не один – но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джезказгане – о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о безплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово Джез-каз-ган подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории. (И что же? Хоть чуть повернул этот Джез-каз-ган наше восприятие мира? Нет конечно. Ведь это не рядом. Ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче – забыть.)
Туда, в Джезказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала ещё девушкой его нынешняя жена. Там, в сени колючей проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она – бухгалтером.
Потом я ушёл в армию, моя жена уехала из Морозовска. Городок попал под оккупацию. Потом был освобождён. И как-то жена написала мне на фронт: «Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром! Какая гадость!» И я тоже поразился и подумал: «Какая мерзость!»
Но прошли ещё годы. Где-то на тюремных тёмных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашёл в себе мальчишеской лёгкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, – а он? Он должен был верить, что всё это – прогрессивно и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и защемлённая жизнь всего народа не имеют никакого значения.
За брошенным нам клочком тумана «культа личности» и за слоями времени, в которых мы менялись (а от слоя к слою преломление и отклонение луча), мы теперь видим и себя, и 30-е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только – партии; комсомола; городской учащейся молодёжи; заменителя интеллигенции (поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти – городского мещанства (рабочего класса)[6 - Именно с 30-х годов рабочий класс стал главным косяком нашего мещанства, весь включился в него. Как, впрочем, и большая часть советской интеллигенции.], у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя Спасской башни до полуночного Интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. («Отчасти» – потому что производственные Указы «двадцать минут опоздания» да закрепление на заводах тоже не вербовали себе защитников.) Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае из нескольких миллионов, кто с отвращением выдёргивал вилку радиотрансляции, как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни (кто точно помнил первоначальный смысл слова) советской, а – захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера.
Человечество почти лишено познания безэмоционального, безчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не всё сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, – но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны – целиком как отвратность, и газетные полосы – целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке (да и радиоприёмников ничтожно мало), что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их Броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И всё, что писалось о загранице, и о безповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко (а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии – ведь это ослабляло союзную английскую империю), – тоже оказалось ложью. Ненавистническая осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства (не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилыгали и русские газеты в Первую Мировую войну) Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме (обруганном почти в тех же – то есть предельных – выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы) узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и Архипелаг, и русский город, и русскую деревню? И всякий газетный поворот о гитлеровцах – то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу «Правды»; то потом в единое утро (второе утро войны) взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, – только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь, для убеждения, перед ним каждый день клали информационный листок Би-Би-Си, то самое большее, в чём ещё можно было его убедить: что Гитлер – вторая опасность для России, но никак, при Сталине, не первая. Однако Би-Би-Си не клало листка; а Информбюро и в день своего рождения имело столько же кредита, сколько ТАСС; а слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук (не из Германии, не из-под оккупации, оттуда ещё ни одного живого свидетеля); а из первых рук был только Джезказганский лагерь, да 37-й год, да голод 32-го, да раскулачивание, да разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий (и десятки тысяч других таких же одиночек) испытывали, что подходит их час – тот единственный неповторимый час, на который уже двадцать лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвигами, – тот час, когда он (они) может заявить своё несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране, и каким-то ещё совсем неизвестным, неясным путём послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий всё запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родною та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он задыхаясь смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь, кого-нибудь, только на смену сталинской власти! (Известная психологическая переполюсовка: любое другое, лишь бы не тошнотворное своё! Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? Кстати, область была донская, – а там половина населения вот так же ждала немцев.) И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг.
Он согласился возглавить морозовскую городскую управу…
А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался: что для пришедших Россия ещё ничтожней и омерзительней, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему, хорошо ли, дурно ли, а крутиться. Освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, – вдруг узнал он слитою с советской: непостижимым образом она от хранившего её трезвого меньшинства, как в решето, ушла к оболваненному большинству, – забыто было, как за неё расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа.
Должно быть, жутко и безысходно стало ему (им). Ущелье сдвинулось, и выход остался: либо в смерть, либо в каторжный приговор.
Конечно, не все там были Броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и вороньё, любящее власть и кровь. Но эти – куда не слетаются! Такие и к НКВД прекрасно подо шли. Таков и Мамулов, и дудинский Антонов, и какой-нибудь Пойсуйшапка – разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу во сто крат. А вот мы видели надзирателя Ткача (Часть Третья, глава 20), – так тот и туда и сюда поспел.
Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня – вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была просто нормальна рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви. О тот год ещё не гундосило радио по избам, и газеты читал не в каждой деревне один грамотей, и все эти Чжан Цзо-лины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне – чужими, равными и ненужными болвашками.
В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сёстры!..» – один мужик ответил чёрной бумажной глотке:
– А-а-а, б…дь, а вот не хотел? – и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают.
И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.
Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но – в другую сторону, в другую сторону! – вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!
Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями – они учили ваших детей.
Но соотечественники (особенно пенсионеры МВД и КГБ, этакие лбы, ушедшие на пенсию в сорок пять лет) подступают ко мне с кулаками: я кого защищаю? бургомистров? старост? полицаев? переводчиков? всякую сволочь и накипь?
Что же, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей как на палочки. Всё равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах.
Заиграли, запели «Пусть ярость благородная…» – и как же не зашевелиться волосам? Наш природный – запретный, осмеянный, стреляный и проклятый – патриотизм вдруг был разрешён, поощрён, даже прославлен святым, – и как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно-взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам – перед подходом палачей закордонных? А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружней и неистовей проклинать изменников – таких явно худших, чем мы, злопамятных людей?
Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А – предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.
Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе – и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей.
Откуда они? Почему?
Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора – и выбрали так[4 - Они не хлебнули с нами Тридцатых годов, и издали, из Европы, им легко было восхититься «великим патриотическим подвигом русского народа» и проморгнуть двенадцатилетний внутренний геноцид.].
Эти же десятки и сотни тысяч – полицаи и каратели, старосты и переводчики – все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.
Что же их заставило?.. Кто это такие?
А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле – к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну. (Другое дело – дачные майораты офицеров Советской армии да обзаборенные подмосковные поместья: это – нам, это можно.) Да ещё кого-то хватали «за стрижку колосков». Да кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом (мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто).
Обо всех таких у нас говорят (а сугубо – агитаторы, а трегубо – напостовцы-октябристы) с презрительной пожимкой губ: «обиженные советской властью», «бывшие репрессированные», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской власти».
Один скажет – а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порок, главная язва: обиженные… затаившие…
И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-то, в конце концов, – определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?
Ещё так у нас умеют говорить с лёгкой тенью на челе: «да, были допущены некоторые ошибки». И всегда – эта невинно-блудливая безличная форма – допущены, только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать: коммунистическая партия допустила! безсменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? – надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил – так вы-то где были, руководящие миллионы?
Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как-то быстро в туманное, неясное, безконтурное пятно и не числятся уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, – так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, – так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да «за Русь Святую» остановили немца на Волге, – так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.
За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения – со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где ещё дымились выстрелы от расстрелов Пятьдесят Восьмой.
Пока была наша сила – мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость – мы тотчас же потребовали от них забыть всё причинённое им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря – и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать Родину не щадя живота. (Но не мы должны были перемениться! И никто не обнадёживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать.)
При таком положении чему удивляться верней – тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей? Или ещё слишком мало? (А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например над доносчиками советского времени, – как расстрел дьякона Набережно-Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких.)
А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы – и стали церкви открывать. (Наши после немцев закрыть сразу постеснялись.) В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да?
В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича Малявко-Высоцкого, он умер в следственной камере, жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста, – и только с приходом немцев спокойно легла спать: «Теперь-то по крайней мере высплюсь!» Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей.
В мае 1943, при немцах, в Виннице в саду на Подлесной улице (который в начале 1938 горсовет обнёс высоким забором и объявил «запретной зоной Наркомата Обороны») случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы – и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3х4 метра. В каждой могиле находили сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные «валетами». Руки у всех были связаны верёвками, расстреляны были все – из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938 осуждён «на 10 лет без права переписки». Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше – больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища – у больницы Пирогова, и открыли ещё 42 могилы. Затем – Парк культуры и отдыха имени Горького, – и под аттракционами, «комнатой смеха», игровыми и танцевальными площадками открыли ещё 14 массовых могил. Всего в 95 могилах – 9 439 трупов. Это – только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А – в остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в советские партизаны?
Может быть, справедливо допустить наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, – так больно и тем, кого топчем мы? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или – нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?
Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врождённую злобу – а злобу-то посеяли мы в них сами, это же наши «отходы производства». Как это Крыленко произносил? – «в наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы»[5 - Н. В. Крыленко. За пять лет. 1918–1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923, с. 337.]. Вашей системы, товарищи! Надо своё Учение помнить!
А ещё не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шёл на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно безкорыстные и лично не задетые, у которых имущества никакого не отнимали (у них не было ничего) и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе; от преследования убеждений; от песенки этой глумливой:
где так вольно дышит человек;
от поклонов этих богомольных Вождю; от дёрганья этого карандаша – дай скорее на заём подписаться! от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха? (Обвиняли на следствии отца Фёдора Флорю – как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях. Он ответил: «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал – то и говорил. Что было – то и говорил». А по-советскому: лги, душою криви и сам погибай – да только чтобы власти на выгоду! Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?)
Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем как мне уйти в армию, в посёлке Морозовске, на следующий год взятом немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами – бездетной четой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет шестидесяти, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне всё чудится на нём пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Ещё тише и мягче была его жена – блекленькая, со льняными прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже немолодая. Они были нам милы, вероятно, и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьёй.
Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие тёплые лунные вечера, ещё не разорванные гулом самолётов и взрывами бомб, но для нас тревога немецкого наступления наползала, как невидимые, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар посёлка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых ещё долго потом молчало Информбюро, боявшееся правды для народа. (О таких городах Броневицкий говорил не «сдали», а «взяли».)
Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умней, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими: всё, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия.
А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодёжи. Мы только что прожили Тридцатые годы – и как будто не жили в них. Они спрашивали нас, чем запомнились нам 37–38-й? Чем же! – академической библиотекой, экзаменами, весёлыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время? Да, верно, двух-трёх посадили, кажется. Их заменили доценты. А студентов – не сажали? Мы вспомнили: да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же?.. Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого н-н-не… тронули?.. Да нет…
Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодёжи, ни – из маньяков, упёртых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро – с десятилетнего возраста, я сопляком уже не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, – но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы (они казались грандиозными) – с качением огромного давящего колеса по стране (число его жертв было как-то незаметно). Я детство провёл в очередях – за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: «временные трудности». В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали – но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах.
А в газетах так выглядело всё безоблачно-бодро.
А молодому так хочется принять, что всё хорошо.
Теперь я понимаю, как Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку, и лагерь не один – но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джезказгане – о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о безплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово Джез-каз-ган подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории. (И что же? Хоть чуть повернул этот Джез-каз-ган наше восприятие мира? Нет конечно. Ведь это не рядом. Ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче – забыть.)
Туда, в Джезказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала ещё девушкой его нынешняя жена. Там, в сени колючей проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она – бухгалтером.
Потом я ушёл в армию, моя жена уехала из Морозовска. Городок попал под оккупацию. Потом был освобождён. И как-то жена написала мне на фронт: «Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром! Какая гадость!» И я тоже поразился и подумал: «Какая мерзость!»
Но прошли ещё годы. Где-то на тюремных тёмных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашёл в себе мальчишеской лёгкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, – а он? Он должен был верить, что всё это – прогрессивно и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и защемлённая жизнь всего народа не имеют никакого значения.
За брошенным нам клочком тумана «культа личности» и за слоями времени, в которых мы менялись (а от слоя к слою преломление и отклонение луча), мы теперь видим и себя, и 30-е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только – партии; комсомола; городской учащейся молодёжи; заменителя интеллигенции (поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти – городского мещанства (рабочего класса)[6 - Именно с 30-х годов рабочий класс стал главным косяком нашего мещанства, весь включился в него. Как, впрочем, и большая часть советской интеллигенции.], у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя Спасской башни до полуночного Интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. («Отчасти» – потому что производственные Указы «двадцать минут опоздания» да закрепление на заводах тоже не вербовали себе защитников.) Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае из нескольких миллионов, кто с отвращением выдёргивал вилку радиотрансляции, как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни (кто точно помнил первоначальный смысл слова) советской, а – захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера.
Человечество почти лишено познания безэмоционального, безчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не всё сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, – но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны – целиком как отвратность, и газетные полосы – целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке (да и радиоприёмников ничтожно мало), что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их Броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И всё, что писалось о загранице, и о безповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко (а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии – ведь это ослабляло союзную английскую империю), – тоже оказалось ложью. Ненавистническая осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства (не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилыгали и русские газеты в Первую Мировую войну) Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме (обруганном почти в тех же – то есть предельных – выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы) узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и Архипелаг, и русский город, и русскую деревню? И всякий газетный поворот о гитлеровцах – то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу «Правды»; то потом в единое утро (второе утро войны) взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, – только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь, для убеждения, перед ним каждый день клали информационный листок Би-Би-Си, то самое большее, в чём ещё можно было его убедить: что Гитлер – вторая опасность для России, но никак, при Сталине, не первая. Однако Би-Би-Си не клало листка; а Информбюро и в день своего рождения имело столько же кредита, сколько ТАСС; а слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук (не из Германии, не из-под оккупации, оттуда ещё ни одного живого свидетеля); а из первых рук был только Джезказганский лагерь, да 37-й год, да голод 32-го, да раскулачивание, да разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий (и десятки тысяч других таких же одиночек) испытывали, что подходит их час – тот единственный неповторимый час, на который уже двадцать лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвигами, – тот час, когда он (они) может заявить своё несогласие с происшедшим, с проделанным, просвистанным, протоптанным по стране, и каким-то ещё совсем неизвестным, неясным путём послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий всё запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родною та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он задыхаясь смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь, кого-нибудь, только на смену сталинской власти! (Известная психологическая переполюсовка: любое другое, лишь бы не тошнотворное своё! Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? Кстати, область была донская, – а там половина населения вот так же ждала немцев.) И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг.
Он согласился возглавить морозовскую городскую управу…
А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался: что для пришедших Россия ещё ничтожней и омерзительней, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему, хорошо ли, дурно ли, а крутиться. Освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, – вдруг узнал он слитою с советской: непостижимым образом она от хранившего её трезвого меньшинства, как в решето, ушла к оболваненному большинству, – забыто было, как за неё расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа.
Должно быть, жутко и безысходно стало ему (им). Ущелье сдвинулось, и выход остался: либо в смерть, либо в каторжный приговор.
Конечно, не все там были Броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось и вороньё, любящее власть и кровь. Но эти – куда не слетаются! Такие и к НКВД прекрасно подо шли. Таков и Мамулов, и дудинский Антонов, и какой-нибудь Пойсуйшапка – разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжествуют десятилетиями и изводят народу во сто крат. А вот мы видели надзирателя Ткача (Часть Третья, глава 20), – так тот и туда и сюда поспел.
Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня – вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была просто нормальна рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви. О тот год ещё не гундосило радио по избам, и газеты читал не в каждой деревне один грамотей, и все эти Чжан Цзо-лины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне – чужими, равными и ненужными болвашками.
В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сёстры!..» – один мужик ответил чёрной бумажной глотке:
– А-а-а, б…дь, а вот не хотел? – и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают.