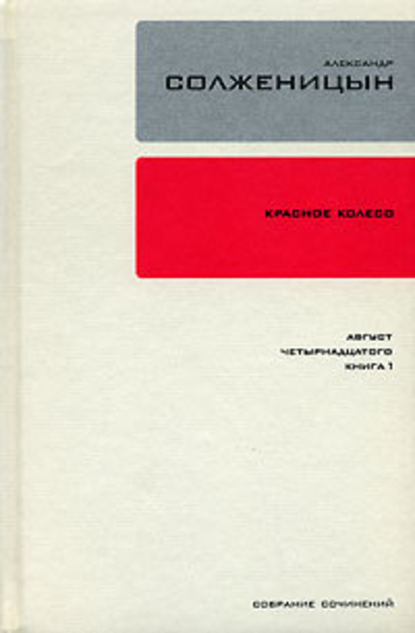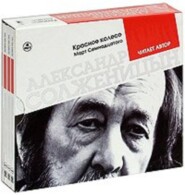По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Книга 1
Жанр
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами – как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.
Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.
Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.
И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.
Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.
Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженые возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в безпечном белом, нетрудовом.
Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.
3
Ирина в ссоре с мужем. – Утверждаться на том, что есть. – Завтрак со свекровью. – Из быта семьи. – Дом и парк.
Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.
Глаза открыла: не в спальне. Одна.
Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с теневым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.
Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен.
Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.
Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.
В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.
Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.
И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).
Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.
У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.
Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её… Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе… А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она…
Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.
Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ирининого покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».
Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.
Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.
Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам – всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?..
Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)
Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.
Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей – только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.
Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.
Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.
В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм, – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом, и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина, наоборот, убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.
С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:
– С Ромашей ночью – опять поврозь?
Ирина опустила прямоносимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.
Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:
– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано… Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.
Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.
– А так мы никогда и не дождёмся…
Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)
– Гордость надо нагибать, Ируша…
Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» – и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.
Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:
– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.
– А чем он плохой вырос?
Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукын ты сын!!» – кричал и топотал Захар Фёдорович, побагрев глазами. «Ты – сам!!» – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!
Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.
Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.
Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.
Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.
Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.
И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.
Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.
Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженые возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в безпечном белом, нетрудовом.
Наверно, молодой. Наверно, прелестной.
И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.
3
Ирина в ссоре с мужем. – Утверждаться на том, что есть. – Завтрак со свекровью. – Из быта семьи. – Дом и парк.
Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.
Глаза открыла: не в спальне. Одна.
Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с теневым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.
Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен.
Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.
Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.
В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.
Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.
И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).
Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.
У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.
Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её… Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе… А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она…
Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.
Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ирининого покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».
Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.
Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.
Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам – всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?..
Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)
Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.
Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей – только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.
Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.
Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.
В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм, – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом, и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина, наоборот, убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.
С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:
– С Ромашей ночью – опять поврозь?
Ирина опустила прямоносимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.
Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:
– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано… Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.
Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.
– А так мы никогда и не дождёмся…
Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)
– Гордость надо нагибать, Ируша…
Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» – и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.
Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:
– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.
– А чем он плохой вырос?
Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед кабинетом, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукын ты сын!!» – кричал и топотал Захар Фёдорович, побагрев глазами. «Ты – сам!!» – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!
Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.
Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.
Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.