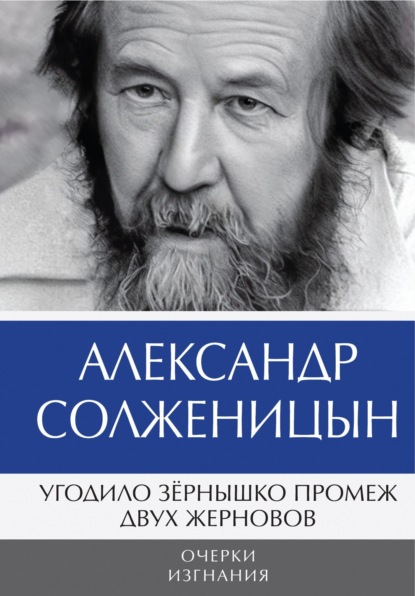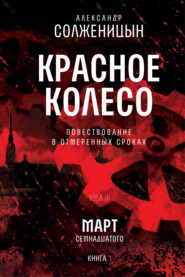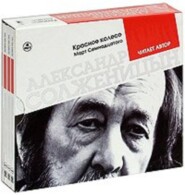По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А приехала Аля – и так же в короткие недели переняла то внешнее ощущение драконовых зубов, которое я испытал в Норвегии. Странно, что, живя в Союзе, мы никогда так не ощущали его нависающую силу, как сразу почувствовали здесь. И вот, в какой-то миг ясности, на мансарде только освояемой цюрихской квартиры, я высказал, и жена как будто приняла: что, ох, не удержимся мы здесь; как уже волны и волны наших эмигрантов – не потянемся ли через океан? (И – продолжали осваивать квартиру, вертикальную от подвала до чердака. Женщине – трудней эти вечные переезды. Аля ещё потом отшатывалась и усильно сопротивлялась, не хотела за океан. Сию минуту ведь ничто не гнало из Европы, не так легко подниматься на новый переезд. Но того требовало протяжённое будущее.)
Так мы начинали жизнь в Цюрихе, уже сразу решив из него уезжать, хотя бы в Юру?
А если не в Европе – то куда?
Методом исключения – получались или Штаты, или Канада. Да ведь детям и хорошо бы дать самый международный язык – английский.
А ещё же держала нас и назад тянула – задача защиты наших собственных арьергардов. Для людей, как-то связанных в прошлом со мной, и особенно для Угримова, всё ещё хранящего архивы, вот этот первый год после моей высылки, и особенно первые месяцы, был напряжённо опасным, решающим: последует ли теперь разгром их всех или не тронут? Реальной силы защитить их у меня не было никакой, но ведь реальной силы не было у меня и все прошлые годы – однако же борьба прошла успешно. Пока советское правительство ещё продолжало меня бояться – а оно боялось меня! – я должен был всемерно показывать, что буду громко и сильно защищать каждого своего помощника, не дам им расправиться втихомолку. С волнением открывали мы приходящие из Москвы «левые» письма. Пока, неделя за неделей, все оставались нетронуты, хотя были наглые кагебистские звонки к Люше Чуковской. Затем узналось о преследованиях Эткинда, и надо было поддержать его, я написал защитное заявление, и ещё раз напомнил о Суперфине[42 - В газету «Афтенпостен» (25 мая 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 85–87.Эткинд Ефим Григорьевич – доктор филологических наук, профессор, в 1974 году за контакты с А. И. Солженицыным, поддержку И. А. Бродского был уволен из педагогического института, где 25 лет преподавал французскую литературу, исключён из Союза писателей, лишён научной степени, звания и должности.Суперфин Габриэль Гаврилович – филолог, ученик профессора Ю. М. Лотмана в Тартуском университете, отчисленный в 1969-м по представлению КГБ. В 1970–1972 годах – один из редакторов подпольного бюллетеня «Хроника текущих событий», арестован в июле 1973-го, в мае 1974-го приговорён к пяти годам заключения и двум годам ссылки.]. Море было прессы вокруг, а устойчивых приёмов, навыка, как же и где быстро и заметно напечатать, – у нас не было. И всё ещё не понимал я до конца, насколько Скандинавия – глухой угол, откуда плохо раздаётся по Западу: приехал как раз Пер Хегге – и я отдал ему для «Афтенпостен» статью. И заглохли там мысли, которые надо бы разъяснять Западу всетелевизийно, главное же – что нельзя превращать разрядку в поступенчатый Мюнхен.
Да не одна ж Скандинавия: не избежать мне было в первые месяцы объятий какой-то крупной телевизионной компании, да американской конечно, – и я дал интервью Си-би-эс[43 - Телеинтервью записывалось компанией Си-би-эс в Цюрихе 17 июня 1974-го, демонстрировалось 27 июня 1974-го. Полный текст: The Alexander Solzhenitsyn interview // Congressional Record (Senate) for 27 June 1974. Vol. 120: 1974, 93
Congress, 2
Session. P. 21483–21486. Русский текст: Телеинтервью компании «Коламбия бродкастинг систем» // Мир и насилие. Франкфурт: Посев, 1974. С. 49–96; Из телеинтервью компании CBS (17 июня 1974) // Публицистика. Т. 2. С. 99–101.]. Они приехали к нам в дом шумной, технически оснащённой, крупной компанией, человек 10, за малой недостачей: не было хороших переводчиков. И я тоже к этой встрече оказался плохо готов, не понимал, кто этот Кронкайт, какой он левый, и сколько подколок в его вопросах, – всё о западной медиа да моём отношении (уже все отметили его), да об эмиграции, да сами-то вопросы мне плохо переводил норвежец Хегге, а уж мои ответы на английский совсем сумбурно и неверно переводил Дэвид Флойд, оба не переводчики, тем более не синхронные, – и Кронкайт меня не понимал.
Без надобности полез я и оценивать Третью эмиграцию: этично ли уезжать по отношению к остающимся? и хорошо ли, кто едет в Америку? и как о тех, кто едет в Израиль? Не моё было дело в это вмешиваться, – но ещё понимали мы отъезжающих как недавних соотечественников, как своих, а рваная рана отрыва от родины пылала. И мысли были – как Гоголь когда-то написал: «Настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая своё презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства»[44 - См.: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (гл. ХХVI: Страхи и ужасы России).]. (А привелось и ему годами жить в Италии.)
Тем временем вынужденная эмиграция – и через меня же! – коснулась столь близких нам Стивы Ростроповича и Гали Вишневской. Ведь никогда же бы их артистическая жизнь не пересеклась бы с каракатицей мерзкой, тусклоглазой политики, если б не их широкодушный и дерзко отважный шаг – дать приют гонимому. И сколько ж за то унижений, подножек, насмешек, плевков пережили они в смрадном объёме советского Министерства культуры, от угодливых прислужников его: их лишали концертов, не только заграничных, но и столичных, Ростроповича гнали ездить почти только по дальней провинции, Вишневскую вытесняли из любимого ею Большого театра, сколькие прежние друзья отворачивались от них трусливо, – после лет сиятельного успеха как им было больно, оскорбительно. Но уж года три они сносили все унижения, и ещё сколько-то бы продержались? Однако после моего изгнания нажим на них стал ещё мстительней: отупевшие от злобы администраторы вместо того, чтоб теперь-то им помягчить, – прямо уже вытесняли их прочь и прочь из храмины советского искусства. И друзья наши не выдержали, согласились уехать. Так любовно устроенный ими дом в Жуковке с концертным залом, никогда не опробованным, и те все аллеи, где они дали мне вынашивать «Красное Колесо», а Але – Игната и Степана, – всё это брошено, дочери Оля и Лена оторваны от своего детства – и всей семьёй в четыре человека Ростроповичей понесло изгоняющим восточным ветром – куда-то в Европу, они сами ещё не знали куда. Да тут был для них не чужой мир, сколько раз они собирали тут жатву славы, сколько друзей тут у них, знакомых, и сколько сейчас польётся предложений, они были в положении, несравненно благоприятнее стольких эмигрантов, – однако от потери родины, без права вернуться, были в ошеломлении. В таком растерянном, смущённом, неприкреплённом состоянии они и посетили нас в Цюрихе. Улыбались – а горько, Стива пытался шутить, а невесело. В нашем травяном дворике сидели мы за столом до сумерек, средь обступивших нас швейцарских особнячков с высокими черепичными крышами – никогда не примерещился бы такой финал пять лет назад, когда они приютили меня в Жуковке.
А ещё в то лето дважды приезжал к нам В. Е. Максимов. Взяв эмиграционную визу почти день в день с моей высылкой, в начале февраля, он уже вот несколько месяцев в Европе, и осматривался и метался: как же приложить силы? Его тут знали мало. Он – не знал ни одного языка. Начать эмиграцию с того, чтобы сесть и тихо писать следующий роман по-русски, – было не по нраву его, бурно-политическому, да и не давало перспективы: нуждался он в положении и в средствах к жизни, приехал он с семьёй. Он задумал выпускать в Париже литературно-политический эмигрантский журнал, по карманному формату удобный для провоза в СССР. Но в Париже уже год восседал другой эмигрант – А. Д. Синявский, как писатель известный менее Максимова, но громкий на весь мир своим судебным процессом и уже создавший себе и в Сорбонне, и в эмиграции почтительно-уважительное окружение. Итак, кандидата в главные редакторы было два, а создавать журнал не на что. Но Максимов, в отличие от Синявского искренний и горячий противник коммунизма, уже выглядел, кто бы мог дать деньги на подобный журнал – германский богатейший издатель правого направления Аксель Шпрингер, с его таким же искренним неприятием коммунизма. Однако, чтобы Шпрингер дал на журнал деньги, весьма значительные, он должен был получить основательную рекомендацию, письменное поручительство, и Максимов не видел другой возможности, как от меня. С этим он и приехал в Цюрих.
С Максимовым я до того встречался лишь один раз: сидели мы с ним рядом в «Современнике» на спектакле. Отметно было – и вполне понятно мне – клокотание гнева в его груди и против советского чиновничества, и против литературных лизоблюдов. По повести его в «Тарусских страницах»[45 - Максимов В. Е. Мы обживаем землю: Маленькая повесть // Тарусские страницы: лит. – худож. ил. сб. Калуга: Калужское кн. изд-во, 1961. С. 223–234.] видно было, что Максимов глубоко черпнул реальной жизни, да и лагерей коснулся, да и детство у него было безпризорное. В напряжении моих последних лет в СССР я успел прочесть две части из его «Семи дней творения»[46 - Солженицын читал роман В. Е. Максимова «Семь дней творения» в самиздатской копии; первое издание – Frankfurt / M.: Посев, 1971.] и нашёл их очень основательными, писатель без подделки и без самоукрасы.
Теперь – этот журнал? Что он будет непримирим к коммунизму – это не вызывало сомнений. Но всё ли – в том одном? А как он ляжет между эмиграциями? Уже отметно было, что Третья эмиграция отшатывается от Первой – Второй (да и против коммунизма никакой ретивости не проявляет). А сам Максимов проявлял тогда к белым холодность, а судьбу «остовцев» и военнопленных ему негде было перенять, ощутить. Безалаберно-неукладистая судьба вряд ли связала его душой с историческими и духовными традициями России. Так что надежда на него была, как говаривала моя Матрёна, – горевая. Именно русскую линию Максимов вряд ли удержит. Я так и сказал ему, в шутку: «Не рассчитываю и не настаиваю, чтобы вы защищали “Русь Святую”, но, по крайней мере, – не охаивайте её!» И всё же я представлял себе Максимова в русских сыновних чувствах определённее, чем он был. Да в тот год, все мы посвеже на Западе, ещё невозможно было вообразить уже близких трещин размежевания.
Но как не поддержать заведомо противобольшевицкое мероприятие? Только вот какую идею я ему предложил – в укрепление фундамента и смысла журнала, – и он её воспринял и потом осуществил: этим журналом объединить силы всей Восточной Европы, чего более всего должны бояться на Старой площади – дружного объединения восточноевропейских эмиграций. (В таком духе я потом послал и приветствие в их первый номер, впечатлевая это направление в рождаемый журнал. И само название подсказал: «Континент», а то Синявский уже предлагал Максимову собезьянничать с Кафки «Процесс».) И – написал Максимову требуемую бумагу, так и заложив помощь от Шпрингера.
Максимов был не один, с милой молодой женой. Уже в сумерки и в вечер засиделись по-русски за чаепитием у нас на первом этаже, а со второго что-то стал плакать Стёпка. Я оставил Алю с гостями, а сам пошёл его утишить. Было ему тогда месяцев девять. Взял его на руки, он сразу успокоился. Подержал его, положил – тут же опять кричит. Только взял на руки – он опять успокоился. И так вдруг – понравилось мне держать его на руках и прижимать, по-матерински. Как будто какая-то невидимая сила или радость переливалась то ли от меня к нему, то ли от него ко мне. И что мне идти туда вниз, за чаем сидеть? Стал я тихо-медленно похаживать с сыном то по комнате, то выходил на балкон. Он посапывал счастливо. Начался тихий дождик. В соседней комнате смирно спали старшие дети. А я держал это сокровище, своего младшенького, – и думал о чуде продолжения жизни. (Он и Степаном-то назван вместо меня: я родился – на Степана, но мама хотела сделать меня Саней по только что умершему отцу; ныне я вернул долг.) И когда он ещё вырастет, при моей ли жизни? И кем станет? И насколько и в чём продолжит меня, комочек крохотный? Мы с ним как союз какой-то заключили в тот вечер.
__________
Но когда же, когда ж я начну снова работать? Ведь на родине писал, под всеми громами, до последнего дня, – а тут вот уже два месяца – и не могу? Задушили перепиской, заклевали вопросами, требованиями, визитами через калитку и окриками поверх заборчика.
Да главное: архива моего всё нет и нет. Хотя Аля уверена: отправка – самая надёжная, дойдёт!
Письма, большей частью иностранные, приходят к нам разбирать, сортировать (уже от чешской помощи отказались) то Алекс Фрис, дочка Ксеньи Павловны, то Мария Александровна Банкул. Даже физический объём этой переписки страшен, никаких комнат в нашей квартире скоро не хватит, а уж – по содержанию? у какого человека станет сил во всё это вникнуть? Изредка на какие-то вопиющие отвечаю.
А вот – приехали раз, и второй от НТС (Народно-Трудовой Союз, давние стойкие антибольшевики), этих нельзя не принять. А вот – вторым или третьим письмом добиваются встречи со мной деятели Международной Амнистии. Это и понятно: я стал известен как борец против тюрем и лагерей, – но и они же, они же? Однако я ещё из СССР, через западное вещание, понял: они ищут двугривенные только под фонарём, где их видно (западные страны, просвеченные информацией), а которые закатились в тоталитарный тёмный угол – тех и искать не будем.
А между писем приходили же ещё книги, книги, только успевай распечатывать, упаковки – в хлам, а книжки – на чердак, по крутой и тесной лестничушке. Что? иностранцы шлют на языках – и не смотрю пока, времени нет, но – что? русские? Когда спохватился, стал сортировать – названья частью слышанные, частью не слышанные, да и журналы целыми комплектами – «Белое дело», «Белый архив», «Первопоходник», – да в СССР никогда бы мне и глазом их не увидеть! Не успеваю осмыслить, объять, – а ведь у меня сами собой, без усилий, от доброжелательства и доверия ко мне старой Первой эмиграции, – собираются самонужнейшие и редкие книги, безценная библиотека по российской революции (80 % того, что нужно для «Красного Колеса», потом пойму). Так надо же дарителей благодарить! (А не всем, не всем ответил, иные так и скончались.)
И наконец – наконец! – 16 апреля, на третий день православной Пасхи – не могли мы заранее угадать, в какой форме и через какого ангела это явится, – подъехал к нашей калитке обычный легковой автомобиль немецкой марки, из него вышла молодая немецкая пара и выразила желание видеть меня. У нас был сын Хееба, завёз какую-то почту, и при нём приезжий не назвал себя вслух, а протянул мне прочесть своё удостоверение, – теперь, наконец, я могу его и назвать: сотрудник германского министерства иностранных дел Петер Шёнфельд. Познакомил Алю и меня также и со своей женой Хильдегард и маленькой дочкой. И скромно передал нам два чемодана и сумку, всего – чуть не на пуд. Аля кинулась в другую комнату смотреть содержимое. Боже мой! – первая, но главная часть моего архива «Красного Колеса» – рукопись неоконченного (и нигде же не сдублированного!) «Октября Шестнадцатого», главных конвертов заготовок штук сорок и тетрадь «Дневника Р-17» – моего уже многолетнего дневника вокруг написания «Колеса». Готов я был Шёнфельда расцеловать! Ощущение чуда: архив спасён из пасти Дракона, невидимо перепорхнул из-под его лапищ, через пол-Европы, – и вот теперь на наш стол, на наш диван! Ликование – не могу сопоставить равного: как выздоровление от рака!
С этого дня – можно было и начинать работу.
Можно – да нельзя. О, сколько же помех. Союз итальянских журналистов присудил мне премию «Золотое клише» (её вручали и пражской молодёжи за август 1968) и ждёт, когда я приеду получать. (Ехать? никуда не в силах. Но если они сами приедут в Цюрих – тогда. ну, тогда надо готовить речь.) – А в эмигрантской русской прессе разгорается жаркая дискуссия о моём «Письме вождям», теребят, чтоб я участвовал и отвечал на критику. – А Видмер звонит: вызывает меня министр юстиции Швейцарии, надо ехать, и он меня повезёт.
Эта поездка прошла в солнечный весёлый день. Разговаривали с Видмером по-немецки не переставая – как я не устал, не знаю. А ехали из одного «ленинского» города в другой «ленинский», предчувствовал я победу над ним: вот ужо, напишу! А вот – проезжаем мимо подъёма на Зёренберг, где Инесса осенью 1916 отсиживалась, не желая встречаться с Лениным; если её описывать – подняться, посмотреть? (Уже посещал меня американский славист, рассказавший, что обнаружил: в те недели, когда для Ленина числилась она в Кларане, – тут, в долине, нашёл в гостиничной регистрации и Арманд, и Зиновьева)[47 - Инесса Арманд и Григорий Зиновьев – революционеры, соратники Ленина. Детали этого эпизода см. в гл. 43 «Октября Шестнадцатого» (Собр. соч. Т. 10. С. 89–102).]. Но нет, Инессу я не буду описывать.
Вот и Берн. И мы – у министра Фурглера, впоследствии президента. (В Швейцарии нет постоянного президента, это сменное дежурное лицо.) Фурглер встречает меня торжественно и после короткой беседы торжественно же объявляет, что мне, без испытательного срока, даётся Niederlassungsbewilligung (разрешение на постоянное жительство). А мне стыдно-то как: ведь и Видмер не знает, что мы с Алей решили уезжать… (Вслед за тем цюрихская полиция выдаёт всей нашей семье швейцарские паспорта.) Ещё успеваем с Видмером посмотреть на характерный Берн, поднявшись сотнями ступеней на соборную башню, и оттуда глянуть на черепичное море крыш, на слитную стиснутую черепичность старого города и готические сталагмиты на самом соборе. (Его построили в XV веке перед Реформацией. В решимости Швейцарской Реформации подчеркнуть, что истиной обладают все, – отдёрнули занавес алтаря и прихожан посадили в алтарь, лицами назад.)
А итальянские журналисты – ну конечно же согласились приехать в Цюрих, конечно, для них это вовсе не труд. В назначенный день сняли зал в здешней гостинице, мы приехали, ахнули: больше тридцати человек, да живые, подвижные, жадные поглядеть и послушать, и глаза и речь у них какие заряжённые. Расселись. Переводила Алекс Фрис, знающая итальянский как родной. Сперва один итальянец выступил, второй, вручили мне эту коробочку. Теперь – моя очередь отвечать. Говорю по фразе, останавливаюсь, Аликс переводит.
А приготовил-то я, оказывается, речь ого-го какую серьёзную[48 - Слово при получении премии «Золотое клише» Союза итальянских журналистов (31 мая 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 195–198. (В позднейших изданиях опубликовано под названием «Орбитальный путь».)]. Ещё находясь в состоянии неоконченного перелёта из одного мира в другой, ещё не усвоив ни точек отсчёта, ни реальных уровней, но уже и давимый нагромождением торжествующей западной материальности, заслонившей всякий дух, – я, опережая догадками равномерный опыт, составил для журналистов речь – вот уж не в коня корм. Мне казалось: пора подниматься в оценках на вершины – а ещё на низменности ничего не было разобрано! И журналисты бедные – угасали на глазах от мудрёных этих высот. После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: «Ну и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясней чего-нибудь не можете сказать?»
Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несказанная. Через четыре года её же, те же мысли сводя в тот же купол, произнёс я в Гарварде – она взорвалась на всю Америку и на весь мир. Очень неравно в западном мире – где именно произнести или печататься. И даже из рафинированных стран Европы, как Франция или Англия, в Америку проникает плохо. Но сказанное в немудрящей Америке – почему-то громко летит на весь мир. Анизотропная среда, как физики говорят.
А именно в Америку, даже за почётным гражданством, я в тот год и не поехал, сберегая время и простор себе для возобновления работы наконец.
Неумело, разбросанно, нервно, в запуте прожил я на Западе свои первые месяцы, да и весь год сплошных ошибок, тактических и деловых. И утешенье было только: уезжать из этого Цюриха – да писать. Пытаться – писать.
Не самое лучшее место для уединения был Штерненберг: стояла дача Видмеров на узком гребне между двумя горными чашами, и с одной стороны к дому вплотную лепилась автомобильная дорога, правда с редким движением, а с другой, под самыми окнами, шла пешеходная тропа для осмотра красот, и каждую субботу-воскресенье и каждый праздник (а их, после СССР казалось мне, в Швейцарии поразительно много) шли и шли швейцарцы, в шерстяных чулках до колен, парами, компаниями, гурьбами, от стариков до школьных классов, – и не только мешали мне движеньем и разговорами, но и засматривали в окна. Чтоб не работать в жарких комнатах, устроил я стол под вишней – но и то место было под надзором тропы. А ещё это всё размещалось на альпийском лугу, и несколько раз в лето сгоняли меня шумом при косьбе, ворошении сена и уборке. Однако сельский труд добрых соседей своей разумностью и неутомимостью укреплял мир души, не мешало рабочее их движение, навозный полив лугов, обдающий крепким запахом, неумолкаемый звон коровьих колокольцев и даже шум трактора.
Особенно светло действовал вид с высоты. В обзорном глядении сверху и далеко вниз, а особенно повторительном, ежедневном, ежеутреннем, есть что-то очищающее душу и просветляющее мысль. Простое стоянье и осмотр – уже есть работа души и ума. И облегчается задача оценить свою минувшую жизнь и преднаметить будущую. Одна чаша, удивительной красоты, сочетание круто спадающего луга, лесных клиньев и островков, извитых рабочих колей, рабочих строений, была постоянно под моими глазами, лишь перевести вперёд с листа бумаги. А особенно удивительны были в этом вертикальном пейзаже игры туманных полос или обрубленных радуг. Ко второй объёмной, обширной чаше надо только дом обойти, это был пространный швейцарский вид с далеко разбросанными хуторами, как птичьими гнёздами. А прямо над нами, близко, сторожила манящая крутая высота, богатая для глаза (лазил туда я за год всего лишь раза три, один раз с о. Александром Шмеманом, нашли там дот швейцарской армии). Километрах в пяти высилась наибольшая тут вершина Хёрнли, в цепи других, не на много меньше. А кусок пешеходной тропы над ещё третьей, соседней, чашей был моим излюбленным «капитанским мостиком». Когда было не ждать гуляющих, я, по тюремному обычаю, ходил по этой тропе туда-сюда, туда-сюда, вбирая себе ясности и разума то от верхнего вида, то от нижнего – от горного прорыва в долину речёнки Тёсс, где иногда промелькивали вагончики поездов и каждый вечер светились одни и те же несколько неподвижных огней посёлка. Ещё особую игру этим трём чашам придавала луна, ежедневно изменяемая в форме и сдвигаемая по небу на час. И уж ни на что не похож был вечер 1 августа – швейцарской независимости, когда вспыхивает огромный костёр на вершине Хёрнли и там и сям костры поменьше, горы перекликаются дрожащими огнями, а в долинах до полуночи хлопушки, стрельба. Стояла и так моя кровать в доме, что первый взгляд утра через распахнутое окно всегда был на дальние горы; глубина и высота видимых гор менялась от ясности прозора, но в лучшие чистые утра первооткрытыми глазами я видел сразу снеговые Альпы.
Отец Александр Шмеман провёл у меня тут чуть не трое суток. Это было первое наше свидание, после тех его великолепных радиопроповедей по «Свободе», которые я лавливал в СССР. Много-много переговорили мы тут с ним – о духовном, о положении православной Церкви, разбитости на течения; об историческом, о литературе (помню его острое замечание о внутренней порче Серебряного века: добро ли, зло, – «есть два пути, и всё равно, каким идти»[49 - …«есть два пути, и всё равно, каким идти»… – строки из стихотворения Н. М. Минского «Два пути» (1900).]). Много ходили по откосам. Помню, лежали на траве над одной из чаш – он закинулся в проект, как бы нам устроить свою русскую радиостанцию? (Поработал он на «Свободе» – слишком стала не та и не то.) О, ещё бы нет! Это было бы подейственней «Континента»! Да только кто же даст для русских десятки миллионов долларов?
День ото дня я в Штерненберге здоровел и телом и духом. И спрашивается, как же они могли меня выслать? Сами устроили мне Ноев ковчег – переждать их потоп. (Сдали их нервы после сентябрьского встречного боя, после моей январской контратаки, и всё ж – на виду у Запада, а с Западом нужна разрядка, усумнились они в своём всемогуществе.) И вот теперь, в 55 лет, я смотрел, смотрел в эти три чаши: уже прокричал я правду о нашей послереволюционной истории – и удалось? и даже выше мечты? Из-под бетонных плит пробился слабенький стебелёк, и бетонная хватка могучего насилия не смогла его размозжить; и отравные испарения самой настойчивой в мире лжи не смогли задушить. С Божьей помощью – жизнь уже удалась.
Теперь заработал я и право заняться чистой литературой? И русской историей?
Всё ж на «капитанском мостике» бодро вышагивал я разные проекты. И проект нашего окончательно решённого переезда в Канаду. И проект: устроить в Канаде Русский университет? Я ещё не начинал знакомиться с русской эмиграцией, но любил её уже давней, многолетней любовью как хранительницу наших лучших традиций, знаний и надежд. Я годами воображал её большой человеческой силой, которая всё сбережёт и когда-нибудь исцеляющим вливанием отдастся нашей стране. И я – вышагивал и записывал проект Университета, у меня он так и сохранился. И факультеты. (Кроме широко гуманитарных, с отечественной традицией, непременно и – освоение пространств без гибели их, инженеры земли, и ведение народного хозяйства с западным опытом.) Уплотнённая программа, каникулы – месяц, хватит, а ещё месяц – работать для русского рассеянья. Стипендия, но для умеренного образа жизни. А потом бы – при университете открыть и русскую школу-десятилетку, с программами не оторванно-эмигрантскими, но и не искажённо-советскими. Я всеми мерами хотел бы укрепить будущих воспитанников, пробудить от западной ублаготворённости, обратить к суровости родины. На это тоже хотел я положить деньги созданного мною Фонда.
Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её растёка этнического, что после шестидесяти лет нету тех слоёв, из которых бы набирать учеников, и никто так строго учиться не захочет, никто не примет на себя суровости добровольно. А по нынешним реальным силам эмиграции – можно бы набирать только из Третьей, однако не для того же бежавшей из «этой страны», чтобы в неё вернуться.
Да и – денежно такого Университета не вытянуть.
В Штерненберге я сосредоточился писать – скорее убедиться, что эту способность не потерял в изгнании. Не так я много в это лето написал (отрывался, часто ездил в Цюрих, к Але, к семье) – Четвёртое Дополнение к «Телёнку» да начал «Невидимки»[50 - Четвёртое Дополнение «Телёнка» составляет одна глава – «Пришло молодцу к концу», в ней описаны события, предшествовавшие высылке Солженицына (январь-февраль 1974). См.: Бодался телёнок с дубом // Собр. соч. Т. 28. С. 367–426.Пятое Дополнение («Невидимки») состоит из 14 очерков, где воздаётся дань памяти и благодарности друзьям и соратникам Солженицына, чья помощь опальному писателю была связана с немалым риском (упомянуто 115 имён), см.: Там же. С. 427–622.].
И думал: ну всё, больше писать «Телёнка» не придётся: если писатель уже не бездомен, не должен гонять от чужого крова к чужому, рукописи свободно лежат в разных комнатах, в тревоге не прячутся при каждом стуке, и начало с концом можно сравнить на столе, а окончив – не надо зарывать в землю, – так, по советской мерке, очерки литературной жизни и кончились?? неудобно бы их и продолжать? Такую концовку я думал приставить после «Невидимок». О, не знаешь, что ждёт впереди. По западной мерке – опять вот очерки потекли, и совсем неожиданные, в новом направлении.
А снова за «Красное Колесо» не мог приняться – значит, сотрясение глубже, чем я сознавал. В растерянности то брался писать воспоминания о давних днях своей жизни, то повышенно много работал над случайной попутной публицистикой да над письмом Собору Зарубежной Церкви[51 - Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви (Август 1974) // Публицистика. Т. 1. С. 199–214. Письмо написано в июле-августе 1974 года в ответ на приглашение Синода Зарубежной Русской церкви приехать на Собор в Соединённые Штаты – взамен приезда. Прочтено на одном из заседаний Собора (Джорданвилл, штат Нью-Йорк, сентябрь 1974).]. К осени принимался за Ленина, тоже не очень сдвинул. Однако здешняя горная (почти – горняя…) объёмность и мудрость быстро возвращали меня в рабочую форму и успокаивали, что писать я тут буду нисколько не хуже, чем в России, – пока ещё налёживает во мне уплотнённый жизненный русский опыт.
А 27 июля героический – а для меня легендарный, я его до сих пор не видел – норвежец Нильс Удгорд, крупноростый, добрый, умный, с женой Ангеликой, привёз нам вторую часть архива. (Осенью пришла третья, последняя и самая объёмная партия – от Вильяма Одома, через Соединённые Штаты. А мою «революционную» библиотеку перевёз Марио Корти. Так к октябрю я был собран весь.)
Удгорды поехали к нам в Штерненберг – и только там мы с Алей впервые узнали, как же был спасён и двигался архив «Красного Колеса», – о чём и в «Невидимках» (очерк 13) я умолчал, по тогдашней просьбе участников.
В том доверенном письме от Али 14 февраля 1974 было написано: «Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с послом ФРГ в СССР». И на следующее утро, 15 февраля, Удгорд написал на имя западногерманского посла Ульриха Зама (Sahm) письмо, по-английски: что говорил с женой Солженицына, та боится за сохранность архива и удастся ли его вывезти. По-видимому, западногерманское правительство помогло советскому отправить Солженицына за границу. Это возлагает на ФРГ моральное обязательство помочь ему. (И возможный объём архива был указан в письме: примерно два чемодана.)
Отлично это было нацелено и обосновано. Сам Ульрих Зам, хотя, вероятно, и сочувствовал мне (это он через Ростроповича тайно сговаривал нашу встречу с Гюнтером Грассом в Москве в сентябре 1973, потом испугался размаха травли, послал Грассу совет не приезжать, был публично им опозорен: «наш посол в Москве состоит на службе у германского или советского правительства?» – а не мог отвечать), – сочувствовал, но и: мог ли он действовать самостоятельно? да к тому ж, говорят, он был и личным другом Брандта. Удгорд не сомневается, что Зам запросил или хотя бы предупредил своё министерство иностранных дел.
Жена Удгорда Ангелика тотчас отвезла и отдала письмо дежурному чиновнику германского посольства. (Она – немка, Германия была и для Удгорда как бы второю родиной, очевидно, и в западногерманском посольстве знали их.) На тот же вечер Удгорд получил приглашение присутствовать на концерте посольского хора, устроенном на дому у советника посольства – третьего по значению в посольстве лица. Приёмы опытных дипломатов! – советник ни во что посвящён не был. Ему было поручено только: пригласить этого скандинавского корреспондента и дать ему прочесть странную, без обращения и без подписи, записку посла (после чего вернуть её автору):
1. Согласен.
2. Только два чемодана.
3. Только через начальника и его заместителя.