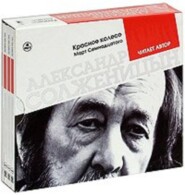По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни
Жанр
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На краю стола вождей поднялся низкий узкий Ильичёв, заведующий отделом пропаганды ЦК, и стал делать доклад, изгибаясь узкой шеей на подобие змеиное. Может быть, и несильный, голос его громко повторялся стенными динамиками, да и смысл слов был партийно-сильный. Что полезно время от времени сверять свои часы. Что абстракционисты действуют чрезвычайно активно и заставляют соцреалистов уйти в оборону. (Наличие войны разумелось само собою.) Формалисты навязывают партии новый диктат. И поступают в ЦК письма: неужели решения партии (несчётно было их за годы, но все в один бок) устарели? Нет! – вздрагивал Ильичёв всей шеей, – мы не допустим кощунственно распространять про Ленина, будто он был сторонник лозунга «пусть расцветают сто цветов»! – То втягивал голову в плечи, то губы закусывал от негодования: – И кинематографисты копаются на заднем дворе, слепнут к генеральной магистрали. И в литературе молодые бравируют фыркающим скептицизмом. А иностранцы выискивают проходимцев вроде Есенина-Вольпина. (Хрущёв: Порнография, а не искусство.) А часть поэтов пропагандирует общечеловеческое начало, как Новелла Матвеева, – мол, всем пою, всем даю. Наступила пора безнаказанного своеволия анархических элементов в искусстве! Требуют выставок без жюри, книг без редакторов. Требуют мирного сосуществования в области идеологии! На собраниях бывают такие условия, что отстаивать партийную позицию становится неудобно. (Сталинцев хрип!)
Так представил партию совсем маленькой, слабой, утеснённой, – а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против неё, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции, – и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей, как Фаворский, Конёнков, Завадский, Эренбург. (И… Сурков! – вот куда он подался!) Сделайте всё, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом – отозвали своё письмо назад. (Хрущёв: И лучше б совсем не присылали!)
Жидкие аплодисменты зала.
А Ильичёв нагнетает и пошёл в наступление, распухая от малого своего объёма: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» – а их нашли и потащили за собою. У нас – полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет всё направление искусства.
Становилось всё жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у меня: пожалуй, и со мной отбой дают, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись наши дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двоение, что сегодня – ещё и именины тоже.
А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного, и Хрущёв зарычал на неё внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством – в бараний бы рог нас свернули!»
А – мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичёв повёл совсем новую руладу: в отличие от произведений упадочнических партия должна отличать произведения хотя и острокритические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения – такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человечные люди в нечеловеческих условиях.
Хрущёв брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма – он не заметил, потому что не голова тут сработала и не бронированная догма. А что честно по-крестьянски – заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичёва, забубнил:
– Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял – это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.
А уже просмотрен я был чутким залом, как прошёл с Твардовским, – и теперь стали сюда оборачиваться и аплодировать – самые угодливые раньше Хрущёва, а уж после Хрущёва совсем густо.
Я встал – ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал – безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово. Всей глубины нашей правды они не представляли – и нечего даже пытаться искать их сочувствие.
Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я – не ихний.
Ещё продолжался доклад Ильичёва, но всё более переходя в непрерывный комментарий Хрущёва. Отвечал он всё авторам того, взятого назад, письма – что нет, нет, возврата к культу личности не будет. «В тюрьму сажать никого не будем, – уверенно объявил Хрущёв. – Получайте паспорта, и скатертью дорога, проявляйте свои таланты там».
(Это была тогда ещё настолько неправдоподобная нота, что никто всерьёз не принял.)
Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми прогляжен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве ещё не известен был доклад Ильичёва, ещё никак ко мне не проявился Хрущёв, – и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчёт «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то ещё были отчаянные, а вот когда повалили – в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошёл), когда я был уже заведомо утверждён партией и можно было ожидать моего дальнейшего взлёта. Тут-то – мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким – с лицом незапоминаемым, никаким, подошёл Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроём, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что, значит, «Правда» за честь берёт – перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущёвым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно всё понимал – и обещал непременно дать.
А ещё минут пять спустя к нам подошёл какой-то высокий, худощавый, с весьма неглупым удлинённым лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же…?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забезпокоился: «Да Су-ус-лов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, ещё продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалели, что упустили моё соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.
Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс – прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забивали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачёв так и лепил: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, – так чем мы тогда будем отличаться от наших врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Её и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что такие вещи были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Ещё выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность – не опасность, лишь несчастье, а опасность – абстракционизм. Чистый ленинский путь – это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.
Я пишу эти заметки через 16 лет – и всё это так уже ушло в прошлое, измельчилось, овторостепенилось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, – что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь это – царствовало полвека и ещё сегодня в Союзе забивает мозги, – так свидетельство не может быть лишним.
Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая – абстракционизм в живописи, уже безусловно осуждённый, безнадёжный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою оттрёпывалось от него – «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусств, но которое – на это смелость требовалась! – можно было попытаться и чуть отстаивать. Общечеловеческое как часть абстрактного искусства! – вот была вся наша уродливая щель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом, Щипачёв (в другие времена – обрядоверный марксист), тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее – и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная – потеряла на них свои права». С сильной было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смелостью, – и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, – и были хорошие.
Вторая нить вилась – лагерная тема. А третья – тёмно-накалённая – антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противоеврейским, и этот сгущённый страх вошёл и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичёв хоть и час говорил, а тему эту обминул, но Никита ещё в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил ещё больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А – был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм – вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но – мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь».) И даже Грибачёву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самим фактом выступления и собою – напоминали, что позиций так не отдадут.
Евтушенко находился (он ещё этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачёва крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно самоуверенно, повышенно значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «Ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не обошёлся он и без театрализованных басен – как он сейчас разговаривал с таксёром, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкопёров), или как приходил в их семью освободившийся зэк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, – и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине – что он, «может быть, даже иногда верил коммунизму» (Хрущёв горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот – как он его строил…»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма – и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеич, вот ваш там портрет – плохой!» (Это тогда – очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личное Хрущёв не обидится.)
А Эренбург, напротив, вышел – дряхлым губошлёпом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая всё новеющую обстановку, он ступал где посмелей, где порабистей. Да, он – боялся Сталина. Сколько раз он немо спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И – неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эренбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! – Сталин не был антисемитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин будто бы вызывал редакторов и ругал их: что за безобразие – раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!) В общем, деды (ленинские соратники) – были хороши, отцы подгуляли. Признался: «Я сам не понимал, что писал в 20-е годы». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его безпокоит – то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». – Вот с таким ничтожным итогом кончал этот наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.
А между тем – за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых трудящихся, – а мы всё сидели, и в какой-то особо удручённо-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительства – сам тут был раб безысходный, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией – ещё было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня – уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито. Значит – на неопределённое время. А если так – то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеича. Оно и наступило.
Ну, конечно, о печати как дальнобойном орудии партии. Внутри нашей страны – нет сосуществования систем, здесь – вопрос чистоты или грязи. (Ещё раз видно, какой манёвр для них – сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Оговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. – Ведь Хрущёв только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот из первых его мирных занятий – с нами.) Идёт борьба за умы людей. Ваши умы – для нас очень ценны, вы сами – маршалы. То, что мы вас вызвали, – уже и доказывает (?), что культа личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но – смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я – поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее – тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что всё написанное – Богом данное, и тащи в типографию, – так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно – не выживет. «Живи и жить давай другим» – я этого не признаю. Мы живём на средства, созданные народом, – и надо народу платить. (И, рассердясь, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного:) «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь – 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я – за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает душу человека. Судья – история, но мы – отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.
А дальше Хрущёв всё больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царём. Весь день обругивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенкой), теперь Хрущёв обругал и Есенина-старшего: «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо, и Есенин (как сын его) был заражён сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы – настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича – колики, живот болит. Не хочу обидеть негров – но весь американский джаз – от негров. А я, когда слушаю Глинку, – у меня текут слёзы радости. Я – старорежимен. Мне нравится Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, – а нравится… Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постоим за старину!»
Постоим за старину! – так это необычно для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущёве помимо коммунизма и исконное.
Но и на этом Хрущёв не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, – «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом просидел всё заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком», – сидели в ложе, Ворошилов выступил, Сталин продиктовал… Потом уже совсем что-то несуразное: будто Сталин принимал Хрущёва за польского шпиона и велел его арестовать…
Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.
Всё отошло – и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил – у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы – а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набиралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания – «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало гарантию, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрёну». Я не ощущал своего разлёта, но при всей зэчьей предусмотрительности не представлял и как короток он – вот уже к февралю оборвётся.
Из двух борющихся сторон я настолько безповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «чёрной сотней» – руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительств, даже сперва без заявления (я для издёвки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), ещё и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву – звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумляясь моему раскату, они могли предвидеть ещё любой вперёд, подозревали мои особые тесные связи с Хрущёвым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это – в их руках), – я гордо отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «чёрной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чушь, впрочем отчасти – боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмосковьи), – обрёк себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжёлыми продуктами, – о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)
Ещё и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранчески, а по существу, в открытую, – я и тут не пошёл. Я всё делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно.
Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлёвских встреч – 7 и 8 марта 1963.
Собрали в белом, совершенно круглом Екатерининском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубою мякотью кресел – и председательское, как бы судейское возвышение из жёлтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами – портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала, там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.
Теперь всё правительство, или политбюро, как его считать, – сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное над нами, ясно видимое – и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменело, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита был не тот хлебосольный хозяин – сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал – и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил:
– Всем холуям западных хозяев – выйти вон!
Даже охолонули все – кому это? что? не мне ли? Даже покосились – не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече – так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)
Ещё догремливал Никита:
– Применим закон об охране государственных тайн! – (То есть: до 20 лет лагеря.)
Напугал – и сел.
И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова щуплый Ильичёв. Змеиного даже меньше было в нём, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и их пользу.
Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищённости» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах – и от одной повести, от одной выставки уже не защищены), «люди в полный голос заговорили о соцреализме». На Западе уже идут россказни о бунте детей против отцов, якобы запятнавших себя в годы культа. Эренбург ввёл двусмысленное понятие «оттепель» – а теперь предсказывают «заморозки».
Хрущёв (грозно): «А для врагов партии – морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)
Косыгин сидит, всё так же уныло ссунувшись плечьми между рук, показывая, что он тут ни при чём, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущёвым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Суслов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).
В лад с Хрущёвым и у Ильичёва появляется угрожающая жестикуляция: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодёжи, а вождь молодёжи – один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Нефёдов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях: «Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчит». (Я сижу, всё записываю и думаю – ну, угодить с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эренбурга (им тогда он казался – вождём оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях – наша печать молчала. А сейчас – читатели протестуют: Эренбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всём давно знали – но молчали.)
Как всё меняется в проекции времени! А в тот год не было острей вопроса, чем этот: знали или не знали все вожди, все партийные верхи о том, что творилось при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущёв. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.
Ильичёв: «Так что ж получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему народ молчал». (И тут народом загородились.) «Но вы, Илья Григорьич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: “Сталин помог мне написать большинство моих книг”. В 1953: “Сталин любил людей, знал слёзы матери, знал думы и чувства миллионов”».
И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать – а в раскаянии. И, при его европейской известности, не так бы гнуться в них.)
И так поворачивает Ильичёв уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы – все верили и восхваляли. А вы восхваляли – и оказывается, не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)
Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять – Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” – (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Суслов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) – Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».
И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?
Так представил партию совсем маленькой, слабой, утеснённой, – а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против неё, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции, – и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей, как Фаворский, Конёнков, Завадский, Эренбург. (И… Сурков! – вот куда он подался!) Сделайте всё, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом – отозвали своё письмо назад. (Хрущёв: И лучше б совсем не присылали!)
Жидкие аплодисменты зала.
А Ильичёв нагнетает и пошёл в наступление, распухая от малого своего объёма: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» – а их нашли и потащили за собою. У нас – полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет всё направление искусства.
Становилось всё жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у меня: пожалуй, и со мной отбой дают, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись наши дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двоение, что сегодня – ещё и именины тоже.
А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного, и Хрущёв зарычал на неё внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством – в бараний бы рог нас свернули!»
А – мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичёв повёл совсем новую руладу: в отличие от произведений упадочнических партия должна отличать произведения хотя и острокритические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения – такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человечные люди в нечеловеческих условиях.
Хрущёв брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма – он не заметил, потому что не голова тут сработала и не бронированная догма. А что честно по-крестьянски – заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичёва, забубнил:
– Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял – это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.
А уже просмотрен я был чутким залом, как прошёл с Твардовским, – и теперь стали сюда оборачиваться и аплодировать – самые угодливые раньше Хрущёва, а уж после Хрущёва совсем густо.
Я встал – ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал – безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово. Всей глубины нашей правды они не представляли – и нечего даже пытаться искать их сочувствие.
Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я – не ихний.
Ещё продолжался доклад Ильичёва, но всё более переходя в непрерывный комментарий Хрущёва. Отвечал он всё авторам того, взятого назад, письма – что нет, нет, возврата к культу личности не будет. «В тюрьму сажать никого не будем, – уверенно объявил Хрущёв. – Получайте паспорта, и скатертью дорога, проявляйте свои таланты там».
(Это была тогда ещё настолько неправдоподобная нота, что никто всерьёз не принял.)
Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми прогляжен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве ещё не известен был доклад Ильичёва, ещё никак ко мне не проявился Хрущёв, – и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчёт «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то ещё были отчаянные, а вот когда повалили – в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошёл), когда я был уже заведомо утверждён партией и можно было ожидать моего дальнейшего взлёта. Тут-то – мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким – с лицом незапоминаемым, никаким, подошёл Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроём, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что, значит, «Правда» за честь берёт – перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущёвым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно всё понимал – и обещал непременно дать.
А ещё минут пять спустя к нам подошёл какой-то высокий, худощавый, с весьма неглупым удлинённым лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же…?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забезпокоился: «Да Су-ус-лов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, ещё продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалели, что упустили моё соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.
Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс – прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забивали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачёв так и лепил: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, – так чем мы тогда будем отличаться от наших врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Её и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что такие вещи были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Ещё выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность – не опасность, лишь несчастье, а опасность – абстракционизм. Чистый ленинский путь – это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.
Я пишу эти заметки через 16 лет – и всё это так уже ушло в прошлое, измельчилось, овторостепенилось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, – что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь это – царствовало полвека и ещё сегодня в Союзе забивает мозги, – так свидетельство не может быть лишним.
Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая – абстракционизм в живописи, уже безусловно осуждённый, безнадёжный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою оттрёпывалось от него – «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусств, но которое – на это смелость требовалась! – можно было попытаться и чуть отстаивать. Общечеловеческое как часть абстрактного искусства! – вот была вся наша уродливая щель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом, Щипачёв (в другие времена – обрядоверный марксист), тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее – и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная – потеряла на них свои права». С сильной было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смелостью, – и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, – и были хорошие.
Вторая нить вилась – лагерная тема. А третья – тёмно-накалённая – антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противоеврейским, и этот сгущённый страх вошёл и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичёв хоть и час говорил, а тему эту обминул, но Никита ещё в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил ещё больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А – был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм – вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но – мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь».) И даже Грибачёву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самим фактом выступления и собою – напоминали, что позиций так не отдадут.
Евтушенко находился (он ещё этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачёва крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно самоуверенно, повышенно значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «Ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не обошёлся он и без театрализованных басен – как он сейчас разговаривал с таксёром, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкопёров), или как приходил в их семью освободившийся зэк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, – и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине – что он, «может быть, даже иногда верил коммунизму» (Хрущёв горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот – как он его строил…»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма – и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеич, вот ваш там портрет – плохой!» (Это тогда – очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личное Хрущёв не обидится.)
А Эренбург, напротив, вышел – дряхлым губошлёпом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая всё новеющую обстановку, он ступал где посмелей, где порабистей. Да, он – боялся Сталина. Сколько раз он немо спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И – неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эренбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! – Сталин не был антисемитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин будто бы вызывал редакторов и ругал их: что за безобразие – раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!) В общем, деды (ленинские соратники) – были хороши, отцы подгуляли. Признался: «Я сам не понимал, что писал в 20-е годы». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его безпокоит – то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». – Вот с таким ничтожным итогом кончал этот наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.
А между тем – за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых трудящихся, – а мы всё сидели, и в какой-то особо удручённо-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительства – сам тут был раб безысходный, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией – ещё было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня – уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито. Значит – на неопределённое время. А если так – то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеича. Оно и наступило.
Ну, конечно, о печати как дальнобойном орудии партии. Внутри нашей страны – нет сосуществования систем, здесь – вопрос чистоты или грязи. (Ещё раз видно, какой манёвр для них – сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Оговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. – Ведь Хрущёв только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот из первых его мирных занятий – с нами.) Идёт борьба за умы людей. Ваши умы – для нас очень ценны, вы сами – маршалы. То, что мы вас вызвали, – уже и доказывает (?), что культа личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но – смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я – поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее – тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что всё написанное – Богом данное, и тащи в типографию, – так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно – не выживет. «Живи и жить давай другим» – я этого не признаю. Мы живём на средства, созданные народом, – и надо народу платить. (И, рассердясь, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного:) «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь – 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я – за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает душу человека. Судья – история, но мы – отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.
А дальше Хрущёв всё больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царём. Весь день обругивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенкой), теперь Хрущёв обругал и Есенина-старшего: «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо, и Есенин (как сын его) был заражён сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы – настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича – колики, живот болит. Не хочу обидеть негров – но весь американский джаз – от негров. А я, когда слушаю Глинку, – у меня текут слёзы радости. Я – старорежимен. Мне нравится Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, – а нравится… Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постоим за старину!»
Постоим за старину! – так это необычно для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущёве помимо коммунизма и исконное.
Но и на этом Хрущёв не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, – «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом просидел всё заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком», – сидели в ложе, Ворошилов выступил, Сталин продиктовал… Потом уже совсем что-то несуразное: будто Сталин принимал Хрущёва за польского шпиона и велел его арестовать…
Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.
Всё отошло – и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил – у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы – а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набиралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания – «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало гарантию, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрёну». Я не ощущал своего разлёта, но при всей зэчьей предусмотрительности не представлял и как короток он – вот уже к февралю оборвётся.
Из двух борющихся сторон я настолько безповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «чёрной сотней» – руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительств, даже сперва без заявления (я для издёвки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), ещё и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву – звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумляясь моему раскату, они могли предвидеть ещё любой вперёд, подозревали мои особые тесные связи с Хрущёвым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это – в их руках), – я гордо отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «чёрной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чушь, впрочем отчасти – боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмосковьи), – обрёк себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжёлыми продуктами, – о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)
Ещё и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранчески, а по существу, в открытую, – я и тут не пошёл. Я всё делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно.
Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлёвских встреч – 7 и 8 марта 1963.
Собрали в белом, совершенно круглом Екатерининском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубою мякотью кресел – и председательское, как бы судейское возвышение из жёлтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами – портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала, там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.
Теперь всё правительство, или политбюро, как его считать, – сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное над нами, ясно видимое – и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменело, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита был не тот хлебосольный хозяин – сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал – и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил:
– Всем холуям западных хозяев – выйти вон!
Даже охолонули все – кому это? что? не мне ли? Даже покосились – не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече – так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)
Ещё догремливал Никита:
– Применим закон об охране государственных тайн! – (То есть: до 20 лет лагеря.)
Напугал – и сел.
И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова щуплый Ильичёв. Змеиного даже меньше было в нём, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и их пользу.
Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищённости» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах – и от одной повести, от одной выставки уже не защищены), «люди в полный голос заговорили о соцреализме». На Западе уже идут россказни о бунте детей против отцов, якобы запятнавших себя в годы культа. Эренбург ввёл двусмысленное понятие «оттепель» – а теперь предсказывают «заморозки».
Хрущёв (грозно): «А для врагов партии – морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)
Косыгин сидит, всё так же уныло ссунувшись плечьми между рук, показывая, что он тут ни при чём, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущёвым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Суслов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).
В лад с Хрущёвым и у Ильичёва появляется угрожающая жестикуляция: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодёжи, а вождь молодёжи – один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Нефёдов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях: «Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчит». (Я сижу, всё записываю и думаю – ну, угодить с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эренбурга (им тогда он казался – вождём оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях – наша печать молчала. А сейчас – читатели протестуют: Эренбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всём давно знали – но молчали.)
Как всё меняется в проекции времени! А в тот год не было острей вопроса, чем этот: знали или не знали все вожди, все партийные верхи о том, что творилось при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущёв. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.
Ильичёв: «Так что ж получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему народ молчал». (И тут народом загородились.) «Но вы, Илья Григорьич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: “Сталин помог мне написать большинство моих книг”. В 1953: “Сталин любил людей, знал слёзы матери, знал думы и чувства миллионов”».
И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать – а в раскаянии. И, при его европейской известности, не так бы гнуться в них.)
И так поворачивает Ильичёв уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы – все верили и восхваляли. А вы восхваляли – и оказывается, не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)
Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять – Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” – (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Суслов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) – Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».
И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?