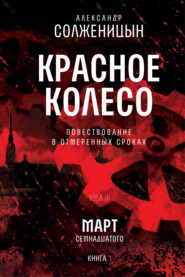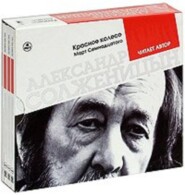По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять – Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” – (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Суслов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) – Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».
И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?
Дальше вышел жердяй и заика Михалков с тремя медалями трёх сталинских премий. Удивил он меня, что сослался на письмо Александра Николаевича Бенуа: «Абстракционизм – исчадие ада, а поддерживается и католической церковью. Западное общество не способно сопротивляться эстетическому террору». Записал я, всё дивясь. И до сих пор не знаю, так ли Бенуа сказал, где, когда, – а насчёт эстетического террора ведь верно! Впрочем, сам Бенуа в 1917 каких наивностей не нагородил.
Дальше Михалков читал ядовитое стихотворение против кого-то молодого и прогрессивного, то ли Евтушенко. А затем зацепил вопрос первостепенный: как «под видом борьбы с религией» (не под видом!) уничтожали деревянное народное зодчество, – но Ильичёв его оборвал: «Доложено, устранено, об этом можно не говорить. Бьёте ложную тревогу».
Сразу осадили – это не в цвет. От своего они не ожидали такого выпада. (Всё-таки время какое – пробивалось и через этого!)
А список ораторов у них был подготовлен тщательно – одна железная когорта, и чтобы все били в одно место, нагнетать ужас. Вышел свинокартошка Александр Прокофьев, поэт, просто исходил ядом. Особенно подковыривал Андрея Вознесенского, – стихи формалистичны, кому они служат, назвал «Треугольную грушу» (Никита опять подскакивал, смеясь). Вот, мол, я получил письмо (это распространённый советский ораторский приём: не самому ругать – а получил письмо от Пролетарского Читателя, поди поспорь), пишут: «молодые хотят выйти к славе любой ценой». Стихи Вознесенского крикливы и рассчитаны на моду (хоть и так, да не вам бы критиковать). Маяковский без Вознесенского давно Америку описал – чего Вознесенский суётся?
А в общем, Прокофьев «почувствовал великое доверие партии к нам». Мелкий подхалим Андрей Малышко: «Стыдно, что мы так долго боялись бороться с формализмом. Пикассо тоже ещё надо от многого очиститься, мы признали у него только “Разрушение Герники” и голубя мира». Пафосный Петрусь Бровка: «Мы благодарны ЦК и лично Никите Сергеевичу. Чего стоят утверждения, будто в годы культа создавались ничтожные произведения, – а на каких же произведениях воспитаны легендарные борцы? Да золотой фонд был создан тогда!»
Так потянули шеренгу одних своих, до самого перерыва. Сидячей еды теперь не полагалось – но пустили к закускам стоя. Лауреаты и деятели очень жадно толкались у столов, захватывая кто что успеет. Слышал я в кулуарах: Ермилов: «Да мы бы с ума сошли, если б знали» (то есть об ужасах культа). И рыжая Шевелёва кинулась к какому-то оратору: «Спасибо, что защитили советских людей!»
Встретились мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги: «Есть фольклор, что Шолохов на подмосковной даче со 140 помощниками приготовил речь против Солженицына». А я ещё так был самоуверен, да и наивен, говорю: «Побоится быть смешным в исторической перспективе». Твардовский охнул: «Да кто там думает об исторической перспективе! Только о сегодняшнем дне».
Познакомил меня с Солоухиным. «Какое знакомое лицо», – сказал я. А знакомое потому, что – общекрестьянское. Он и заговорил – о «Матрёне» и что можно с Кориным познакомиться (давно я мечтал посмотреть «Русь уходящую»). Правда, была у меня на Солоухина обида: ещё из неизвестности посылал я ему письмо в газету против громкого радиовещания, бича сельской тишины (у него во «Владимирских просёлках» сходное место), – и просил что-нибудь сделать, напечатать, от себя. А Солоухин мне – вовсе не ответил. Я ему сейчас сказал – он не вспомнил, Твардовский же осадил меня: «А вы теперь – всем отвечаете? А сколько у вас неотвеченных писем?» (И чем более идут годы – тем более вздыхаю я об этом.)
Вернулись в зал – но не только не было просветления в ораторской череде, а снова вышел Ильичёв и стал читать бывшие стихи Эренбурга (кто-то, значит, ему в перерыве подсунул). Но Хрущёв нетерпеливо перенял речь себе, – к трибуне он не выходил, да не помню, вставал ли и за помостом, да ведь и так высоко сидел – и оттуда метал ничем не ограниченные громы. С интересом он, де, читал мемуары Эренбурга: потому что сам Хрущёв того же возраста, честно воевал в Красной Армии, а Эренбург то на Дону, то в Крыму, и видел лакеев буржуазии. «Эренбург не радуется революции, а страдает с окна на чердаке. Что ж, как вы к нам, так и мы к вам, товарищ Эренбург. Сейчас, когда враг трепещет перед нашей мощью, – нам предлагают идеологическое сосуществование? Свободно продавать у нас западные газеты? Неплохая идея, только не торопитесь. – (Ильичёв подкидывал голову с блинной улыбкой.) – Вы – неплохо умеете скрывать свои мысли. Но жизнь заставляет читать между строк». Оказывается, прошлый раз Хрущёв просто недослышал, что говорил Евтушенко, оттого и не отозвался. «Вы говорите – времена не те? Но – и не те, которые были временно созданы в Будапеште! Москва – не Будапешт! И клуба Петефи не будет! И конца такого – не будет! Да, обстоятельства заставляют нас читать между строк. – (Как будто они иначе когда делали.) – В Малом театре поставили “Горе от ума” с подкашливанием – мол, у отцов учиться не надо. И “Застава Ильича” (фильм Хуциева) – туда же. Товарищ Хуциев, не верю! Сука всегда спасает щенка (то есть как КПСС – молодёжь). – Ну хорошо, дайте сатиру. Но и сатира разная бывает. Не так, что: в сельском хозяйстве провал, в промышленности провал – из-за того, что началась борьба с абстракционизмом. Мне очень нравится прошлое и сегодняшнее наше совещание. Но надо, чтобы не партия, а сами вы боролись за чистоту своих рядов. Как чеховский мужичок говорит: одну гайку завинтить, другую отвинтить, чтобы крушения не было. Не пора ли и в театрах перестать водить на казнь несчастную шотландскую королеву?» – (Это – против классики, не могу сейчас воссоздать всю связь речи.) – И кончил решительно: «Извините, партийное руководство мы ни с кем делить не будем. Партия и народ – единое! А вы думаете – при коммунизме будет абсолютная свобода? Это – стройное, организованное общество, автоматика, кибернетика, – но и там будут ходить люди, облечённые доверием, и говорить, что кому делать». (Очень откровенная картина. Вряд ли она попала в газеты, как и бо?льшая часть той речи. Откровенность – редкая, полезная.)
И собственно, после такого Никитиного разъяснения, после уже двух выступлений Ильичёва и нескольких угодливых – совещание могло бы и закончиться, уже всё главное было высказано. Ещё же надо охватить, сколько было насовано в зал партийных деятелей – по крайней мере 40 %, они и сидели сплочённо и сильно, дружно аплодировали всем правильным речам – это тоже внушало, рокот и неотвратимость партийной силы.
Но нет, провороты бюрократической машины требовали теперь всему правительству и всем нам сидеть и преть ещё полтора суток, чтобы партийная воля лучше дошла бы до нашего смятенного сознания.
Тут – объявили Шолохова, я вспомнил слова Твардовского, и сердце моё пригнелось: ну, сейчас высадят из седла и меня, не много же я проехал!
В своих записях я помечал время начала каждого оратора. Ильичёв и Хрущёв начали в 13.25, Шолохов – в 13.50. А следующего за ним я записал – 13.51. Всего-то одну минуту, без преуменьшений, говорил наш литературный гений, это ещё и со сменой. На возвышенной трибуне выглядел он ещё ничтожнее, чем вблизи, да и бурчал невнятно. Он вытянул вперёд открыто небольшие свои руки и сказал всего лишь: «Смотрите, я безоружный. – (Пауза.) – Вот Эренбург сказал – у него была со Сталиным любовь без взаимности. А как сейчас у вас – с нынешним составом руководства? У нас – любовь со взаимностью».
И – всё, и уже сходил, как Хрущёв подал ему руку с возвышенности: «Мы – любим вас за ваши хорошие произведения и надеемся, что вы тоже будете нас любить».
И всё. Этот жест безоружности и был показ, что заготовленной речи Шолохов говорить не будет. (Потом узналось: его и Кочетова предупредили не произносить речей против меня, чтобы «пощадить личный художественный вкус Хрущёва». А – должны были две речи грянуть, шла банда в наступление!)
Тут вышел первый не из когорты – кинорежиссёр Ромм. У московской интеллигенции он был как бы вторым лидером, после Эренбурга, и теперь, когда Эренбурга громили, противостояния ждали от него. Но – он никак не был готов, ему трудно. Вся смелость его (как и большинства) ушла в аналогии («Обыкновенный фашизм»), а – прямо вот так, напрямую? У него были извинчивые обороты, извинительный голос, прикладывание пальцев к груди. «Мне трудно спорить с первым секретарём ЦК». (Но и тем не попал, Хрущёв откликнулся сердито: «Тогда вы лишаете меня права подавать реплики. Но я тоже – гражданин своего народа!») С одной стороны – кинематограф наш на правильном пути, с другой стороны – тревожно за молодых. (Хрущёв: «Острее чтоб направленность была!») Возражал против уже прослышанной ликвидации Союза кинематографистов. (И так и было, Хрущёв: «Я хочу, чтоб вы помогали не министерству, а партии!») А Ромм всё о Союзе (поручили ему отстаивать – дома творчества, курсы). И прямо просил: оставьте! (Хрущёв: «Положи?тесь на партийное руководство!» Так и не дал ему говорить.) И вот – всё выступление ожидаемого лидера.
Теперь вылезла та рыжая вольная Шевелёва и читала стих «Я верю в судьбу твою, Индия», почему-то. Потом вышел, как разжиревший вышибала, председатель композиторского союза Хренников. Он громил «душок либерализма в творческих объединениях», Москву назвал джазоубежищем, за приём джазов. (Хрущёв хмуро: «Это министерство культуры так несерьёзно приглашает».)
Затем – цыгановатый Чухрай, такой модный среди передовых, надежда либерализма, – и такой осторожный. Во-первых, мол, выступать при членах правительства – высокая честь. Прыгал в тыл противника (вероятно, делать киносъёмки партизан), воевал, лежал в госпитале, – но так высоко, как сейчас, – не приходилось. Лозунг сосуществования идеологий – безсмыслица. (Очень потрафил.) В Югославии этот опыт произведен. (Хрущёв: «Но сейчас-то Тито и-на-че смотрит!») Чухрай сразу и в отступление: «Я, может быть, отстал, я был там два года назад». Есть западные фильмы – только половые проблемы, и режиссёр гордится, если показал половой акт на экране.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: