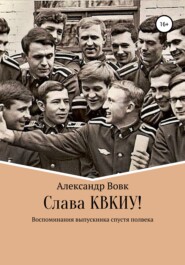По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучик-Света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говорить об этом со мной, а не с тобой, врачу, пожалуй, было легче – всё же предстоящая трагедия не касалась меня, как говорится, напрямую. Да, для меня это, безусловно, тоже была тяжёлая трагедия, но происходящая с самым дорогим мне человеком, а не со мной лично. Может, врач считала, будто от этого мне должно быть легче. Или она возлагала надежду на мои волевые мужские качества? Уж не знаю! Но тогда мне казалось, будто она во всём ошибается. И, чем серьезнее она ставит вопрос, тем больше она заинтересована в решении того, что нас, почти наверняка, не касается вообще.
Но ее первый же вопрос уничтожил завесу неизвестности, как-то защищавшей мою психику от трагической перспективы:
– Вам приходилось встречаться с тем, что называется саркомой? Вы знаете, что это такое?
Я стал мяться:
– Как вам сказать? Близких, как будто, миновало. А я, вроде бы, представляю… Но если понадобится объяснить, то вряд ли сделаю это достаточно точно…
– Понятно. Это быстро прогрессирующая злокачественная опухоль, то есть, форма рака. К сожалению, современная медицина лишь пытается как-то с ней бороться, но в вашем случае болезнь находится на завершающей стадии, и надеяться на чудо не приходится. Вы простите меня за столь неприятную откровенность, в разговоре с вашей супругой я позволить ее не могу, но вы это должны знать. Вам просто необходимо это знать, чтобы помочь ей прожить без мук оставшиеся месяцы, может недели! Более точно вам никто не скажет. И никто, чтобы ни говорил, как бы не успокаивал, что бы ни обещал, уже не поможет. Даже операцию вашей супруге мы делать фактически не стали, поскольку после рассечения обнаружили многочисленные и широко разветвленные метастазы. Слишком поздно. Слишком поздно. Извините, я должна идти к больным. А вы… Если она вам дорога, вы сердцем поймете, как вам быть. Извините! – закончила разговор врач и вышла задолго до того, как я, ошеломленный и потерянный, стал понимать смысл услышанного.
Мне сразу показалось, будто земля уходит из-под ног. Меня действительно зашатало, замутило. Мне самому медицинская помощь пришлась бы в самый раз, но в тот момент я думал не о себе. Как же переживешь это ты, мой Лучик-Света, когда узнаешь столь безапелляционную истину? Как вообще это может пережить живой жизнерадостный уверенный в предстоящем счастье и продолжительной жизни человек?
В один момент всё оказалось отсеченным, всё в прошлом, и ничего в будущем! Будто тебя уже нет! Человеческий мозг понять это не в состоянии. Он ведь всегда работал на перспективу; он всегда решал любые и даже самые сложные задачи только в интересах собственного выживания; он всегда преодолевал самые невероятные трудности, лишь бы укрепиться на этом свете; он всегда боролся за благополучие того, кому служил от рождения, а, возможно, от самой зиготы… И вот теперь этому мозгу стало ясно, что тому телу, которому он добросовестно служил днем и ночью, уже ничем не помочь! И если сейчас он еще соображает, то завтра и это окажется не в его силах!
Как такое понять и, тем более, принять? Как вынести эту обиду, разочарование, злость и зависть к тем, кто останется потом, кого такая беда счастливо обошла стороной… «Почему не повезло именно мне?» – будешь спрашивать ты в недоумении и отчаянии.
Через день нам неожиданно позвонили из собеса (я уже всем, где просили твой телефон, давал свой домашний или рабочий). Столь необычная оперативность социальных служб предвещала что-то недоброе, хотя нас, точнее, тебя, всего-то приглашали зайти к ним в ближайшие дни и даже в удобное для тебя время.
Мы не стали медлить, и на следующий день тебе вручили документы, подтверждающие инвалидность первой группы. Дожидаясь тебя в коридоре, я и не предполагал такого развития событий. Оно меня почти оглушило осознанием того, как далеко зашла наша беда. Слава богу, было заметно, что ты не совсем понимаешь происходящее.
– Вот те раз! – ты обрадованная выскочила из кабинета. – Первая группа! Надо же! Теперь и на работу ходить не надо, а деньги всё равно заплатят! Сплошной отпуск начинается, Сережка!
Но поглядела на меня, непроизвольно потускневшего от такой новости, и, видимо, стала, наконец, понимать, что радоваться первой группе не стоит, если даже чувствуешь себя совершенно здоровой.
– Сережка! – твоё радостное настроение перешло в тревожное. – Это что же такое? Они меня списали, как неполноценную, что ли? Я же здорова! Послезавтра мне из отпуска выходить… Как же теперь?
– Ничего особенного, мой Лучик! – только и смог я выдавить из себя. – Выйду пока один и всё там разведаю! И документы твои сам в отдел кадров отнесу. Пусть они для начала сами разберутся в этой заумной писанине! Договорились? А ты немного отдохнешь от меня и от них, почитаешь спокойненько… Красота! – усиленно успокаивал я тебя.
Мы молча добрели до дома, где ты, уже подавленная, ушедшая в себя, молча пролежала на диване до вечера, будто меня не было рядом. Но и я пребывал в замешательстве, не зная, как быть: отвлекать тебя от мрачных мыслей или же оставить в покое. Но чтобы отвлекать, мне следовало действовать более активно, стало быть, стремиться к чему-то конкретному, а я и сам не выходил из растерянности и промаялся до вечера в самых страшных прогнозах, стараясь не попадаться тебе на глаза. Я не знал, к чему теперь мы должны стремиться?
Оказалось, что всё это время ты вовсе не хандрила, поскольку пришла к вполне определенному решению, хотя никто не мог нам подсказать, насколько оно верное:
– Сереженька, а если мы действительно съездим в Уфу?
У меня от неожиданности всё перевернулось в голове: «Впереди окончание отпуска, значит погружение без остатка в производственные дела; твоя неожиданная, ужасная и непонятная болезнь… А теперь еще поездка в какую-то Уфу…». Потому ответил я не сразу:
– Конечно, поедем! Но сначала бы понять: зачем и куда? Ты и без того, вижу, очень устала в последние дни.
– Сережка! Сереженька! Страшно мне… Понимаешь? Очень страшно! Обними меня, пожалуйста… Ну почему ты весь вечер меня обходишь? Почему не глядишь на меня? О чем ты думаешь? Ты тоже признаёшь меня тяжело больной? Тогда мне надо лечиться, а они все молчат! Ну почему они ничего не делают? Не советуют! Давай к нему съездим, Сереженька, в Уфу!
Я обнял тебя и задохнулся сумасводящим ароматом твоих волос, свойственным только тебе. От этого запаха, ставшего бесконечно родным, мне сначала сделалось хорошо, а затем опять страшно. Я вдруг явственно представил, что и ты, и всё непередаваемое моё счастье последнего месяца, связанное только с тобой, едва обнаруженное мною в многолетней суете заурядного холостяцкого бытия, способно вот-вот разлететься вдребезги и исчезнуть навсегда! Тебя подтачивает страшная и невидимая болезнь, против которой я совершенно бессилен. Её не возьмешь за грудки, ей, по-мужски, не врежешь промеж глаз! Она и дальше будет творить своё коварнейшее зло, уничтожая то, что нам обоим дорого, а я бездействую, не зная, что предпринять…
Я отошел от тебя, сославшись на желание поставить на плиту чайник, постарался сосредоточиться – уж не раскис ли я? В любой ситуации надо искать выход, не сдаваясь и не унывая! Я поглядел на тебя, прячась за кухонной дверью, и увидел только любимые глаза, большие, напряженные, испуганные, полные надежды, которая для тебя целиком сосредоточилась лишь во мне, а я при этом раскисаю, ничего не предпринимая!
– Пустяки! – уверенно, как мог, заключил я, вернувшись к тебе. – Сейчас постараюсь всё организовать!
Ты смотрела на меня с благодарностью, и от этого я становился увереннее и твёрже, всё четче сознавая свою ответственность перед тобой и за тебя.
Удобная всё-таки штука – домашний телефон! Я ушел в другую комнату, прибавив громкость телевизора на случай, если придется произносить нечто нежелательное для твоих ушей, и связался со смежниками из Уфы. Очень удачно застал на месте тамошнего коллегу. Объяснил ситуацию. Он сразу всё уяснил, старика обещал разыскать, если живой, пригласил по приезду остановиться лично у него, заверил, что всё возможное сделает без волокиты.
Потом долго не отзывалась железнодорожная справка. Наконец, я узнал расписание поездов и то, что даже билеты есть – в такое время года проблем с ними, обычно, не бывает.
Позвонил главному. На работе его не застал, он оказался уже дома. Пусть так.
– Станислав Николаевич! Приветствую! Я сразу о деле! Прошу отпуск за свой счет. Хотя бы пять суток…
– Что случилось, Сергей Петрович? Мы как раз тебя из отпуска ждем, не дождёмся, дел для тебя и старых, и новых накопилось немерено, а ты опять туда же! Не наотдыхался ещё?
– Сергей Петрович, я понимаю, как это выглядит со стороны! Но надо! Объясню всё потом! Я отработаю, но очень уж нас прижало одно прескверное обстоятельство! Завтра со Светланой выезжаем в Уфу. Скажите там, кому надо, пусть за меня сами отпуск оформят…
– Да, что случилось-то? Я же должен знать! Скажи толком…
– Я всё-всё объясню. Сейчас не могу говорить. – Я прикрыл трубку ладонью и пояснил. – Жена очень больна. Ей сегодня дали первую группу.
– Во-о-т как! – протянул он, видно, не сразу справившись с потрясением от услышанного, и после долгой паузы спросил. – Что тебе еще нужно, Сергей? Может, мне в их обком позвонить, чтобы встретили?
– Спасибо, наверно, я и сам прорвусь!
Когда я, уже несколько ощутивший возвращающуюся ко мне былую уверенность, вернулся к тебе в комнату, ты по-прежнему сидела на диване, поджав коленки к подбородку, и глядела в неопределенную точку, будто в ней пыталась разглядеть ответы на все неразрешимые наши вопросы. Телевизор тебя не интересовал. Я присел на полу рядом, обнял твои ноги, боясь резко выводить тебя из задумчивого состояния, и осторожно объявил:
– Светик! Всё хорошо! Всё решилось! Мы сегодня же выезжаем… В Уфу. Как ты хотела. Поезд в 23.15. Белгород-Новосибирск. Завтра в 18.54 будем на месте. Нас будут ждать. Обратно – уже на следующий день, тем же поездом, в 21.51. Ну, что? Собираемся, мой Лучик?
Глава 9
Нас действительно встретили у вагона:
– Вы Антошин? – спросил меня симпатичный улыбчивый парень в коротенькой курточке, и, получив утвердительный кивок, облегченно произнес. – Здравствуйте, Сергей Петрович и Светлана Ивановна! Меня зовут Денисом. Иван Тимофеевич приказал устроить вас на ночь в нашем пансионате; он расположен в чудесном сосновом бору, а утром доставить вас по интересующему адресу. Часов в десять я заеду. Так вас устроит? И вот вам еще номерок. Это домашний телефон Ивана Тимофеевича… Велел передать, чтобы в случае чего, звонили лично ему в любое время по любым вопросам и без всякого стеснения. Ну, что, поехали? – он выхватил у меня нашу тяжелую сумку и повел нас на привокзальную площадь.
«Какие всё-таки приятные встречаются люди! – помню, подумал я тогда. – Не всегда и не везде, но хорошо, что всё-таки встречаются! Такие, как Иван Тимофеевич, да этот Денис. Они – крепкая опора не только в нашей беде, но в любом деле, самом трудном и важном для страны! Они и есть фундамент нашего народа! Более того, они и есть наш народ! И всё хорошее, что обычно о нем говорят, даже называя великим, делают и определяют именно такие настоящие порядочные толковые и бескорыстные советские люди! Были бы мы все такими! Ан, нет! После войны, что ли, но русские люди стали розниться, каждый за себя, каждый под себя! То ли от неподъемных прошлых бед, то ли от многолюдья, то ли от необъятности территории, нам предками завещанной!»
Разыскиваемый нами старик оказался малоразговорчивым, хотя и доброжелательным. Открывая перед нами протяжно заскулившую калитку, он в первую очередь окинул быстрым взглядом сверху вниз именно тебя, как-то характерно мотнул головой, а его морщинистое бородатое лицо выразило крайнюю досаду, и потом одного меня пригласил пройти в его неокрашенный снаружи почерневший от времени деревянный дом:
– А ты, дочка, присядь пока здесь, либо на кроликов моих погляди! Они там, за домом! – он сделал отмашку рукой. – Интереснейшие, надо признать, существа!
В очень темной комнате, пока старик не включил свет, он, увлекая меня жестом за собой, спросил через плечо:
– Документы медицинские привезли?
Я протянул всё, что накопилось за это время. Он взял бумаги и снимки в свои руки и принялся всё обстоятельно разглядывать. Заметно было, что предо мной очень чистый и аккуратный старичок непонятного возраста. Его лицо выражало интеллигентность. Оно было красивым и по-стариковски привлекательным для любого портретиста. Чистые, но натруженные жилистые руки со свежими ссадинами признать руками хирурга было трудно. Признаков проживания еще кого-то в доме я не выявил. Значит, сам справляется, а хозяйство, учитывая кроликов и характерный запах коровьего навоза, у него, видимо, немалое.
Пучков травы, висящих повсюду, на что я рассчитывал, входя в жилище знахаря, не было видно. Обстановка, прямо скажем, не слишком роскошная. Стало быть, не шкурным интересом живёт человек! Даже это усилило во мне едва ли обоснованную надежду и авансом вызвало к старику некоторое доверие!
«Но что же ты, дорогой наш, сумеешь наколдовать сверх того, что смогла сотворить современная медицина?» – подумал я, до сих пор не очень доверяя всякого рода знахарям, в том числе и этому, видимо, хорошему человеку, но берущемуся сотворить чудо, невозможное для медицины, невозможное ни для кого.
Дед в сильных очках, которые придерживал пальцами, долго щурился, несколько раз перекладывая на подоконнике наши бумаги, а закончив дело, произнес в сердцах:
– Видно, так и не появилось на Земле ни бога, ни справедливости! Всё продолжается по-прежнему… Сколько вашей девочке лет?