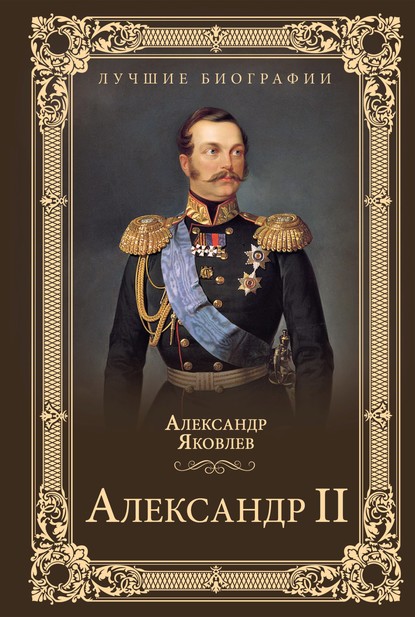По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр II
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скатившись с горной высоты.
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый.
О Дружба, это ты!
В эти годы в тихой Москве также старательно учились будущие сподвижники Александра Николаевича. Дима Милютин после занятий с домашними учителями в 1828 году поступил в третий класс Московской губернской гимназии. Постановка обучения стояла там не слишком высоко, мальчик попросту скучал в компании шалунов. Алексей Михайлович по настоянию жены перевел старшего сына спустя год в Московский университетский пансион. Заодно он определил туда и младших – Николая и Владимира.
Незаурядные способности Дмитрия проявились в пансионе сразу. В 14 лет он пишет первые свои печатные труды, причем не стихи, как большинство сверстников, а научные работы: «Опыт литературного словаря», «Руководство к съемке планов с применением математики». Они были изданы в 1831 году для удовольствия автора и Елизаветы Дмитриевны.
Три брата Милютиных стали в пансионе центром умственной деятельности. Дмитрий и Николай возглавили ученический литературный кружок, затеяли издание рукописного журнала «Улей». Успехи в учебе они показывали отменные. В 1832 году Дмитрий окончил пансион с серебряной медалью. Ему исполнилось шестнадцать лет. Надо было определять место приложения своих сил для служения Отечеству, и он долго раздумывал.
Великий князь Александр Николаевич рос, и постепенно пришло охлаждение в его отношениях с добрейшим Василием Андреевичем. Тот был по-прежнему любим и уважаем, но вдруг стали видны смешные стороны старого наставника: сентиментальность, боязливость. Подростку дороги были воспоминания о долгих прогулках по окрестностям Павловска, о теплых вечерах с увлекательными сказками, но то было детство.
Жуковский видел это и не мог не печалиться. У того же Плутарха он читал: «Александр сначала восхищался Аристотелем и, по его собственным словам любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Впоследствии… стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, впрочем, не настолько большою, чтобы причинить ему какой-либо вред…» Сознание того, что человеческая природа одинакова в своих проявлениях, что при греках, что нынче, утешало, но слабо.
Поставя себе задачей входить во все дела государства, Николай Павлович интересовался учебными заведениями. В апреле 1833 года он посетил Первую гимназию и выразил неудовольствие. Во время урока Закона Божия один ученик, лучший, как поспешили доложить, по поведению и успехам, слушал объяснения учителя со вниманием, но – облокотясь. Священнику был сделан выговор, на который он почтительно отвечал:
– Государь, я обращаю внимание более на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят.
Император смолчал, не в силах уразуметь такое пренебрежение формой. Малозначимое это происшествие спустя два года аукнулось в Зимнем дворце. Законоучитель наследника отец Герасим Павский, доктор богословия и знаток древних языков, преподававший также в университете, был разоблачен Святейшим Синодом как будто бы допускавший отступления от канонов православия. Без лишнего шума во дворце и университете его заменили молодым священником Василием Борисовичем Бажановым, ставшим духовником царской семьи.
Удивительным образом сочетались в Николае мелочность и высокомерие с умом и чутьем на талант. Ведь взял он в учителя Александру профессора Константина Ивановича Арсеньева, при покойном брате привлекавшегося по делу о «неблагонадежных профессорах» Петербургского университета и уволенного попечителем. Большего наказания Арсеньев избежал благодаря заступничеству Николая Павловича. Арсеньев преподавал историю и статистику далеко не в духе официальной доктрины министра С.С. Уварова. Позднее он вспоминал, с каким участием его царственный ученик «скорбел о разных преградах к свободному развитию новой, лучшей жизни для народа». Вернее было бы объяснить сочувственную скорбь наследника его мягким сердцем, нежели пониманием подлинного положения дел.
Великого князя манили парады, смотры, учения. С грустью замечал Жуковский, что его воспитанника больше занимают мундиры, чем книги. Могло ли быть иначе?
В те годы Россия победно закончила две войны – с Персией и Турцией. Было подавлено польское восстание. Вот эти образцы военной удали, победной доблести, смелости и отваги жадно впитывал подросток. Удаль и отвага были в мундире. Василий Андреевич – без мундира. Так на всю жизнь, сам того не сознавая, Александр сделал выбор. И все же благотворное влияние Жуковского не могло пропасть вовсе.
Сам поэт выступал ходатаем за многих. Он просил перевести Батюшкова, вернуть из ссылки Пушкина, простить Николая Тургенева и еще многих. Прослышав о написанном, но не поданном письме с предложением амнистии участникам декабрьского мятежа, царь призвал к себе Жуковского и выдал ему, по выражению поэта, головомойку, «в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова». Царь упрекал его в тесных связях с людьми беспорядочными и даже осужденными за преступления.
– …А ведь ты при моем сыне! Иди и не затевай больше разговора об том!
Этот и другие ручейки милосердия в царском дворце смягчали сердце Александра Николаевича, хотя кто мог с уверенностью сказать это? В юном великом князе соседствовали грубость и светский лоск, доброта и лень, жаркая привязанность к близким и непомерное самолюбие.
Воинское и гуманитарное начала, представленные Мердером и Жуковским, все-таки не сплавлялись, а розно существовали в нем, и первое главенствовало. Смутное осознание в себе противоречивых, подчас противоположных чувств и желаний, породило скрытность. В качестве девиза Александр в двенадцать лет избрал себе такой: «Постоянство, деятельность и надежда», и в этом вроде бы случайном наборе понятий вновь проглянула судьба.
А пока он рос при постоянном контроле отца. По требованию Николая Павловича ему назвали главные недостатки сына: надменность, неподатливость при исполнении приказаний и страсть спорить, доказывая свою правоту. Отметили все возраставшее равнодушие Александра к занятиям. Сам император заметил с неудовольствием у сына интерес к «военным мелочам, смотрам да парадам», а не к военному делу. Сделанное тогда отеческое внушение возымело действие, но, в общем, характер Александра уже сформировался.
На ежегодном экзамене на вопрос законоучителя, должно ли прощать обиды, нам причиненные, Александр отвечал: «Должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законам народным, должны быть судимы законами; существующий закон не должен делать исключения ни для кого». Ответ примечателен, ибо искренен.
Николай Павлович помнил свой бедный опыт к началу царствования: ведь брат даже не ввел его в Государственный Совет. Сыну он решил дать всестороннюю подготовку. В 1831 году он затеял писать «Записки», главным образом для оправдания своих действий в декабре 1825 года.
Чрезвычайно мелким, но разборчивым почерком на французском языке он заполнил две тетради. «Я пишу не для света – пишу для детей своих; желаю, чтобы до них дошло в настоящем виде то, чему я был свидетель… Буду говорить, как сам видел, чувствовал, от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю». Незаметно увлекшись воспоминаниями, он ярко описал свое детство и юность, наполненную пустыми делами. От этого он стремился уберечь Александра.
«До 1818-го года не был я занят ничем; все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. В сем шумном собрании проходили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю генерал-губернатор с комендантом и вслед за ним все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частью время проходило в шутках и насмешках нащет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя ни начальников, ни правительство. Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал – и в редком обманулся. Время сие было потерей временно, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался».
Частью государственной жизни было включение великого князя в систему власти. В августе 1831 года (после смерти великого князя Константина Павловича) он был провозглашен наследником-цесаревичем, 22 апреля 1834 года принес присягу в качестве наследника престола.
Георгиевский зал был переполнен, мужчины в парадных мундирах, дамы в придворных нарядах. Перед троном был поставлен аналой, на котором лежало Евангелие. Рядом стоял солдат-преображенец с государственным знаменем.
Пушкин записал в тот день в дневнике: «Это было вместе торжество государственное и семейное, великий князь был чрезвычайно тронут. Присягу произнес он твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться – и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Наследник, прочитав молитву, кинулся обнимать отца, который расцеловал его в лоб и в очи и в щеки – и потом подвел сына к императрице. Все трое обнялись в слезах… Все были в восхищении от необыкновенного зрелища – многие плакали; а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез…» Сам поэт, однако, не поехал в Зимний дворец с поздравлениями: «Царство его впереди, и мне, вероятно, его не видать».
Тот апрель был месяцем не только радостных слез. В Петербург пришло из Рима известие о смерти Карла Карловича Мердера. От великого князя таили печальную новость, чтобы не омрачить ему радости, и сказали 28 апреля, после бала, данного в его честь столичным дворянством.
Сентиментальность естественно сочеталась у Николая Павловича с неукоснительным следованием порядку. Десять дней спустя после трогательной церемонии он посадил наследника под арест на дворцовую гауптвахту за то, что тот на параде проскакал галопом вместо рыси. Об этом, как и обо всех дворцовых новостях, тут же стало известно в Петербурге. Государь считал, что такой строгостью он заставит всех уважать порядок, но общество тихо недоумевало и покорно молчало. Урок был воспринят только наследником: не ошибаться даже в мелочах!
В шестнадцать лет началась новая жизнь, детство кончилось. Жуковскому была пожалована пожизненная пенсия в 3 тысячи рублей. Тогда же сам Александр препроводил московскому и петербургскому генерал-губернаторам по 5 тысяч рублей, прося разделить эти деньги между наиболее нуждающимися жителями столиц. Трудно не увидеть в этом благородном порыве юноши влияния его наставника.
Младших великих князей тоже учили. Адмирал Федор Петрович Литке, моряк с головы до ног, занялся обучением Кости. В отличие от старшего брата этот был натурой нервной, пылкой и открыто впечатлительной, был неутомимо любознателен. Литке учил его физике, гидрографии, всем подробностям морского дела в теории и на практике. Благодаря этому восьмилетний Костя, получивший чин мичмана, успешно командовал военным бригом. Николай Павлович вполне одобрял такую направленность учебы, и все остальные науки оказались отодвинуты на второй план. К царской доле готовился старший.
К этому времени определились и пути братьев Милютиных. Семнадцатилетнего Дмитрия отец отвозит в Петербург и определяет на военную службу – фейерверкером во вторую батарейную роту 1-й гвардейской артиллерийской бригады. По окончании установленного шестимесячного срока, сдав экзамены, Милютин в ноябре 1833 года был произведен в офицеры и оставлен на службе в той же бригаде.
Став офицером, он не оставляет пера. В конце 1833 года пишет обширную критическую статью с разбором вышедших в том году курсов физики Д.М. Перевошикова и М.Г. Павлова. Примечателен конец рецензии семнадцатилетнего офицера: «Фальшивое правило приняли те, кои думают, что по бедности нашей отечественной литературы должно довольствоваться и малым и одною лептою, приносимою в урну просвещения, должно хвалить и те книги, кои в нашем бедном тесном кругу на нашу монету приобрели себе первое место. – Нет… от русской нововыходящей ученой и учебной книги мы требуем соперничества со всеми уже известными ее сверстниками не только соотечественными, но и иностранными».
Немудрено, что строевая служба не могла удовлетворить такого офицера, и в конце 1835 года он поступает в практический класс Военной академии, минуя первый класс – теоретический. Блестяще окончив на следующий год академию, Милютин был причислен к Генеральному штабу с назначением в Гвардейский генеральный штаб, т. е. штаб гвардейского корпуса. Больше, кажется, и желать было нечего. Елизавета Дмитриевна была счастлива.
Брат Николай в том же 1835 году также переехал в столицу и поступил на службу в министерство внутренних дел. Он ближе Дмитрия сошелся с дядей Павлом Дмитриевичем, вероятно по сходству характеров, и руководствовался его советами в служебной деятельности. Впрочем, и советы, и родственная протекция стали лишь дополнением к проявлениям его исключительно даровитой и энергичной натуры. Он терпеливо усваивал уроки суровой бюрократической школы, ожидая случая проявить себя в большом деле.
Юного наследника престола уже прямо начинали готовить к делам государственного управления. Обзор истории внешней политики ему читал Ф.И. Бруннов, курс о финансах – министр Е.Ф. Канкрин. С октября 1835 года начались лекции Сперанского, названные автором «Беседы о законах». Трудно переоценить эти занятия. Подобно Мердеру и Жуковскому, Сперанского следует причислить к основным воспитателям наследника, ибо он заложил в его сознание основы государственности, каковые были и должны были быть на российской земле.
«Слово неограниченность власти, – утверждал Сперанский, – означает то, что никакая другая власть на земле, власть правильная и законная, ни вне, ни внутри империи, не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставленные, извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно, и право самодержавное, потому есть право, поскольку оно основано на правде. Там, где кончается правда и где начинается неправда, кончится право и начнется самовластие. Ни в каком случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во всех случаях он подлежит, однако же, суду совести и суду Божию».
Стоит ли говорить, что главным воспитателем оставался отец.
Раз Арсеньев вел очередной урок статистики и читал о народах, из которых составлена Россия. Император зашел в залу, хотел было выйти, но, услышав разъяснения преподавателя, остановился.
– …поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финляндцы и другие племена по вере, языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различествуют друг от друга и от русского народа, – четко излагал Арсеньев. – Но все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собой, что составляют одно целое.
– А чем все это держится? – спросил Николай Павлович, шагнув к ним. Спросил привычно громко и внушительно, но губы кривила улыбка. Государь был в хорошем настроении.
– Самодержавием и законами, – заученно ответил наследник.
– Законами? Нет, – веско ответствовал Николай Павлович. – Самодержавием – и вот чем, вот чем, вот чем! – сильно махая сжатым кулаком при каждом повторении этих слов. Бросил еще взгляд на замерших учителя и ученика и вышел.
Глава 3. Зимний дворец
Зимний дворец, увиденный впервые, поражает своим великолепием. В нем слиты громадность объемов, красота формы и та естественность, полная вписанность в окружающую обстановку, которые присущи подлинно великим творениям. С декабря 1825 года дворец стал местом жительства Николая Павловича и его семьи. Им там нравилось, хотя поначалу Александра Федоровна жалела об уюте Аничкова дворца.
Стоявший неподалеку Мраморный дворец оставался в распоряжении великого князя Константина Павловича, но большей частью пустовал. Михаил Павлович в том же 1825 году построил себе Михайловский дворец, вызвавший общее восхищение. Все, правда, понимали, что подлинной вдохновительницей поразительной по гармонии постройки Карла Росси была великая княгиня Елена Павловна.
То были разные миры в рамках одной императорской фамилии Романовых. Дороже и ближе всех взрослеющему наследнику был мир отца и матери.
После рокового декабря и от частых родов матушка часто болела. Она закрывалась в спальне с верной баронессой Фредерикс, пруссачкой, подругой детских лет, а молодые фрейлины сменяли одна другую на дежурстве. Дети посещали ее по утрам и перед сном. Николай Павлович в такие дни заходил часто, проверял, как готовит сиделка питье, вовремя ли подает, а то и сам проводил ночи у ее постели (в этом нет ничего удивительного, позднее он так же часы проводил у больного графа А.X. Бенкендорфа).
Чуть только лейб-медик Н.Ф. Аренд объявлял, что дело идет на поправку, с тем же пылом и настойчивостью Николай Павлович увлекал жену в вихрь приемов, смотров, поездок, прогулок, балов. Александра Федоровна, право, любила все это.
Она, а не государь, соединяла большую семью, неосознанно следуя примеру свекрови. Ежедневно ко времени утреннего кофе между девятью и десятью часами по коридорам Зимнего к ней спешили дети, большие и малые с воспитателями и воспитательницами: Саша, Мария, Ольга, Александра, малыш Костя и совсем маленькие Коля и Миша. Рассаживались в маленькой угловой столовой. Посторонних не было, и потому не пыжились, говорили свободно, шутили, жаловались и обижались.
Николай Павлович почти всегда посещал эти утренние собрания. День его начинался рано. В девятом часу, после гулянья, пил кофе, а в десятом его твердый шаг слышался в покоях царицы. Оттуда он шел заниматься делами. В первом часу вновь навещал ее, играл с детьми, после чего гулял. В четвертом часу кушал, в шесть вновь гулял, в семь пил чай с семьей. Одет бывал попросту – в сюртуке без эполет.
«Боже, какой у вас утомленный вид!» – восклицала Александра Федоровна. «Страшно много дел», – отвечал он. После чая еще два часа отводилось на занятия, в десятом часу ужинал, вновь гулял и около полуночи ложился почивать. Из распорядка дня императора видно, что семье он отводил немало времени, но и гулянью тоже.
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый.
О Дружба, это ты!
В эти годы в тихой Москве также старательно учились будущие сподвижники Александра Николаевича. Дима Милютин после занятий с домашними учителями в 1828 году поступил в третий класс Московской губернской гимназии. Постановка обучения стояла там не слишком высоко, мальчик попросту скучал в компании шалунов. Алексей Михайлович по настоянию жены перевел старшего сына спустя год в Московский университетский пансион. Заодно он определил туда и младших – Николая и Владимира.
Незаурядные способности Дмитрия проявились в пансионе сразу. В 14 лет он пишет первые свои печатные труды, причем не стихи, как большинство сверстников, а научные работы: «Опыт литературного словаря», «Руководство к съемке планов с применением математики». Они были изданы в 1831 году для удовольствия автора и Елизаветы Дмитриевны.
Три брата Милютиных стали в пансионе центром умственной деятельности. Дмитрий и Николай возглавили ученический литературный кружок, затеяли издание рукописного журнала «Улей». Успехи в учебе они показывали отменные. В 1832 году Дмитрий окончил пансион с серебряной медалью. Ему исполнилось шестнадцать лет. Надо было определять место приложения своих сил для служения Отечеству, и он долго раздумывал.
Великий князь Александр Николаевич рос, и постепенно пришло охлаждение в его отношениях с добрейшим Василием Андреевичем. Тот был по-прежнему любим и уважаем, но вдруг стали видны смешные стороны старого наставника: сентиментальность, боязливость. Подростку дороги были воспоминания о долгих прогулках по окрестностям Павловска, о теплых вечерах с увлекательными сказками, но то было детство.
Жуковский видел это и не мог не печалиться. У того же Плутарха он читал: «Александр сначала восхищался Аристотелем и, по его собственным словам любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Впоследствии… стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, впрочем, не настолько большою, чтобы причинить ему какой-либо вред…» Сознание того, что человеческая природа одинакова в своих проявлениях, что при греках, что нынче, утешало, но слабо.
Поставя себе задачей входить во все дела государства, Николай Павлович интересовался учебными заведениями. В апреле 1833 года он посетил Первую гимназию и выразил неудовольствие. Во время урока Закона Божия один ученик, лучший, как поспешили доложить, по поведению и успехам, слушал объяснения учителя со вниманием, но – облокотясь. Священнику был сделан выговор, на который он почтительно отвечал:
– Государь, я обращаю внимание более на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят.
Император смолчал, не в силах уразуметь такое пренебрежение формой. Малозначимое это происшествие спустя два года аукнулось в Зимнем дворце. Законоучитель наследника отец Герасим Павский, доктор богословия и знаток древних языков, преподававший также в университете, был разоблачен Святейшим Синодом как будто бы допускавший отступления от канонов православия. Без лишнего шума во дворце и университете его заменили молодым священником Василием Борисовичем Бажановым, ставшим духовником царской семьи.
Удивительным образом сочетались в Николае мелочность и высокомерие с умом и чутьем на талант. Ведь взял он в учителя Александру профессора Константина Ивановича Арсеньева, при покойном брате привлекавшегося по делу о «неблагонадежных профессорах» Петербургского университета и уволенного попечителем. Большего наказания Арсеньев избежал благодаря заступничеству Николая Павловича. Арсеньев преподавал историю и статистику далеко не в духе официальной доктрины министра С.С. Уварова. Позднее он вспоминал, с каким участием его царственный ученик «скорбел о разных преградах к свободному развитию новой, лучшей жизни для народа». Вернее было бы объяснить сочувственную скорбь наследника его мягким сердцем, нежели пониманием подлинного положения дел.
Великого князя манили парады, смотры, учения. С грустью замечал Жуковский, что его воспитанника больше занимают мундиры, чем книги. Могло ли быть иначе?
В те годы Россия победно закончила две войны – с Персией и Турцией. Было подавлено польское восстание. Вот эти образцы военной удали, победной доблести, смелости и отваги жадно впитывал подросток. Удаль и отвага были в мундире. Василий Андреевич – без мундира. Так на всю жизнь, сам того не сознавая, Александр сделал выбор. И все же благотворное влияние Жуковского не могло пропасть вовсе.
Сам поэт выступал ходатаем за многих. Он просил перевести Батюшкова, вернуть из ссылки Пушкина, простить Николая Тургенева и еще многих. Прослышав о написанном, но не поданном письме с предложением амнистии участникам декабрьского мятежа, царь призвал к себе Жуковского и выдал ему, по выражению поэта, головомойку, «в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова». Царь упрекал его в тесных связях с людьми беспорядочными и даже осужденными за преступления.
– …А ведь ты при моем сыне! Иди и не затевай больше разговора об том!
Этот и другие ручейки милосердия в царском дворце смягчали сердце Александра Николаевича, хотя кто мог с уверенностью сказать это? В юном великом князе соседствовали грубость и светский лоск, доброта и лень, жаркая привязанность к близким и непомерное самолюбие.
Воинское и гуманитарное начала, представленные Мердером и Жуковским, все-таки не сплавлялись, а розно существовали в нем, и первое главенствовало. Смутное осознание в себе противоречивых, подчас противоположных чувств и желаний, породило скрытность. В качестве девиза Александр в двенадцать лет избрал себе такой: «Постоянство, деятельность и надежда», и в этом вроде бы случайном наборе понятий вновь проглянула судьба.
А пока он рос при постоянном контроле отца. По требованию Николая Павловича ему назвали главные недостатки сына: надменность, неподатливость при исполнении приказаний и страсть спорить, доказывая свою правоту. Отметили все возраставшее равнодушие Александра к занятиям. Сам император заметил с неудовольствием у сына интерес к «военным мелочам, смотрам да парадам», а не к военному делу. Сделанное тогда отеческое внушение возымело действие, но, в общем, характер Александра уже сформировался.
На ежегодном экзамене на вопрос законоучителя, должно ли прощать обиды, нам причиненные, Александр отвечал: «Должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законам народным, должны быть судимы законами; существующий закон не должен делать исключения ни для кого». Ответ примечателен, ибо искренен.
Николай Павлович помнил свой бедный опыт к началу царствования: ведь брат даже не ввел его в Государственный Совет. Сыну он решил дать всестороннюю подготовку. В 1831 году он затеял писать «Записки», главным образом для оправдания своих действий в декабре 1825 года.
Чрезвычайно мелким, но разборчивым почерком на французском языке он заполнил две тетради. «Я пишу не для света – пишу для детей своих; желаю, чтобы до них дошло в настоящем виде то, чему я был свидетель… Буду говорить, как сам видел, чувствовал, от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю». Незаметно увлекшись воспоминаниями, он ярко описал свое детство и юность, наполненную пустыми делами. От этого он стремился уберечь Александра.
«До 1818-го года не был я занят ничем; все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. В сем шумном собрании проходили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю генерал-губернатор с комендантом и вслед за ним все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большею частью время проходило в шутках и насмешках нащет ближнего; бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя ни начальников, ни правительство. Долго я видел и не понимал; сперва родилось удивление, наконец, и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял; многих узнал – и в редком обманулся. Время сие было потерей временно, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался».
Частью государственной жизни было включение великого князя в систему власти. В августе 1831 года (после смерти великого князя Константина Павловича) он был провозглашен наследником-цесаревичем, 22 апреля 1834 года принес присягу в качестве наследника престола.
Георгиевский зал был переполнен, мужчины в парадных мундирах, дамы в придворных нарядах. Перед троном был поставлен аналой, на котором лежало Евангелие. Рядом стоял солдат-преображенец с государственным знаменем.
Пушкин записал в тот день в дневнике: «Это было вместе торжество государственное и семейное, великий князь был чрезвычайно тронут. Присягу произнес он твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться – и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Наследник, прочитав молитву, кинулся обнимать отца, который расцеловал его в лоб и в очи и в щеки – и потом подвел сына к императрице. Все трое обнялись в слезах… Все были в восхищении от необыкновенного зрелища – многие плакали; а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез…» Сам поэт, однако, не поехал в Зимний дворец с поздравлениями: «Царство его впереди, и мне, вероятно, его не видать».
Тот апрель был месяцем не только радостных слез. В Петербург пришло из Рима известие о смерти Карла Карловича Мердера. От великого князя таили печальную новость, чтобы не омрачить ему радости, и сказали 28 апреля, после бала, данного в его честь столичным дворянством.
Сентиментальность естественно сочеталась у Николая Павловича с неукоснительным следованием порядку. Десять дней спустя после трогательной церемонии он посадил наследника под арест на дворцовую гауптвахту за то, что тот на параде проскакал галопом вместо рыси. Об этом, как и обо всех дворцовых новостях, тут же стало известно в Петербурге. Государь считал, что такой строгостью он заставит всех уважать порядок, но общество тихо недоумевало и покорно молчало. Урок был воспринят только наследником: не ошибаться даже в мелочах!
В шестнадцать лет началась новая жизнь, детство кончилось. Жуковскому была пожалована пожизненная пенсия в 3 тысячи рублей. Тогда же сам Александр препроводил московскому и петербургскому генерал-губернаторам по 5 тысяч рублей, прося разделить эти деньги между наиболее нуждающимися жителями столиц. Трудно не увидеть в этом благородном порыве юноши влияния его наставника.
Младших великих князей тоже учили. Адмирал Федор Петрович Литке, моряк с головы до ног, занялся обучением Кости. В отличие от старшего брата этот был натурой нервной, пылкой и открыто впечатлительной, был неутомимо любознателен. Литке учил его физике, гидрографии, всем подробностям морского дела в теории и на практике. Благодаря этому восьмилетний Костя, получивший чин мичмана, успешно командовал военным бригом. Николай Павлович вполне одобрял такую направленность учебы, и все остальные науки оказались отодвинуты на второй план. К царской доле готовился старший.
К этому времени определились и пути братьев Милютиных. Семнадцатилетнего Дмитрия отец отвозит в Петербург и определяет на военную службу – фейерверкером во вторую батарейную роту 1-й гвардейской артиллерийской бригады. По окончании установленного шестимесячного срока, сдав экзамены, Милютин в ноябре 1833 года был произведен в офицеры и оставлен на службе в той же бригаде.
Став офицером, он не оставляет пера. В конце 1833 года пишет обширную критическую статью с разбором вышедших в том году курсов физики Д.М. Перевошикова и М.Г. Павлова. Примечателен конец рецензии семнадцатилетнего офицера: «Фальшивое правило приняли те, кои думают, что по бедности нашей отечественной литературы должно довольствоваться и малым и одною лептою, приносимою в урну просвещения, должно хвалить и те книги, кои в нашем бедном тесном кругу на нашу монету приобрели себе первое место. – Нет… от русской нововыходящей ученой и учебной книги мы требуем соперничества со всеми уже известными ее сверстниками не только соотечественными, но и иностранными».
Немудрено, что строевая служба не могла удовлетворить такого офицера, и в конце 1835 года он поступает в практический класс Военной академии, минуя первый класс – теоретический. Блестяще окончив на следующий год академию, Милютин был причислен к Генеральному штабу с назначением в Гвардейский генеральный штаб, т. е. штаб гвардейского корпуса. Больше, кажется, и желать было нечего. Елизавета Дмитриевна была счастлива.
Брат Николай в том же 1835 году также переехал в столицу и поступил на службу в министерство внутренних дел. Он ближе Дмитрия сошелся с дядей Павлом Дмитриевичем, вероятно по сходству характеров, и руководствовался его советами в служебной деятельности. Впрочем, и советы, и родственная протекция стали лишь дополнением к проявлениям его исключительно даровитой и энергичной натуры. Он терпеливо усваивал уроки суровой бюрократической школы, ожидая случая проявить себя в большом деле.
Юного наследника престола уже прямо начинали готовить к делам государственного управления. Обзор истории внешней политики ему читал Ф.И. Бруннов, курс о финансах – министр Е.Ф. Канкрин. С октября 1835 года начались лекции Сперанского, названные автором «Беседы о законах». Трудно переоценить эти занятия. Подобно Мердеру и Жуковскому, Сперанского следует причислить к основным воспитателям наследника, ибо он заложил в его сознание основы государственности, каковые были и должны были быть на российской земле.
«Слово неограниченность власти, – утверждал Сперанский, – означает то, что никакая другая власть на земле, власть правильная и законная, ни вне, ни внутри империи, не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставленные, извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно, и право самодержавное, потому есть право, поскольку оно основано на правде. Там, где кончается правда и где начинается неправда, кончится право и начнется самовластие. Ни в каком случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во всех случаях он подлежит, однако же, суду совести и суду Божию».
Стоит ли говорить, что главным воспитателем оставался отец.
Раз Арсеньев вел очередной урок статистики и читал о народах, из которых составлена Россия. Император зашел в залу, хотел было выйти, но, услышав разъяснения преподавателя, остановился.
– …поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финляндцы и другие племена по вере, языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различествуют друг от друга и от русского народа, – четко излагал Арсеньев. – Но все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собой, что составляют одно целое.
– А чем все это держится? – спросил Николай Павлович, шагнув к ним. Спросил привычно громко и внушительно, но губы кривила улыбка. Государь был в хорошем настроении.
– Самодержавием и законами, – заученно ответил наследник.
– Законами? Нет, – веско ответствовал Николай Павлович. – Самодержавием – и вот чем, вот чем, вот чем! – сильно махая сжатым кулаком при каждом повторении этих слов. Бросил еще взгляд на замерших учителя и ученика и вышел.
Глава 3. Зимний дворец
Зимний дворец, увиденный впервые, поражает своим великолепием. В нем слиты громадность объемов, красота формы и та естественность, полная вписанность в окружающую обстановку, которые присущи подлинно великим творениям. С декабря 1825 года дворец стал местом жительства Николая Павловича и его семьи. Им там нравилось, хотя поначалу Александра Федоровна жалела об уюте Аничкова дворца.
Стоявший неподалеку Мраморный дворец оставался в распоряжении великого князя Константина Павловича, но большей частью пустовал. Михаил Павлович в том же 1825 году построил себе Михайловский дворец, вызвавший общее восхищение. Все, правда, понимали, что подлинной вдохновительницей поразительной по гармонии постройки Карла Росси была великая княгиня Елена Павловна.
То были разные миры в рамках одной императорской фамилии Романовых. Дороже и ближе всех взрослеющему наследнику был мир отца и матери.
После рокового декабря и от частых родов матушка часто болела. Она закрывалась в спальне с верной баронессой Фредерикс, пруссачкой, подругой детских лет, а молодые фрейлины сменяли одна другую на дежурстве. Дети посещали ее по утрам и перед сном. Николай Павлович в такие дни заходил часто, проверял, как готовит сиделка питье, вовремя ли подает, а то и сам проводил ночи у ее постели (в этом нет ничего удивительного, позднее он так же часы проводил у больного графа А.X. Бенкендорфа).
Чуть только лейб-медик Н.Ф. Аренд объявлял, что дело идет на поправку, с тем же пылом и настойчивостью Николай Павлович увлекал жену в вихрь приемов, смотров, поездок, прогулок, балов. Александра Федоровна, право, любила все это.
Она, а не государь, соединяла большую семью, неосознанно следуя примеру свекрови. Ежедневно ко времени утреннего кофе между девятью и десятью часами по коридорам Зимнего к ней спешили дети, большие и малые с воспитателями и воспитательницами: Саша, Мария, Ольга, Александра, малыш Костя и совсем маленькие Коля и Миша. Рассаживались в маленькой угловой столовой. Посторонних не было, и потому не пыжились, говорили свободно, шутили, жаловались и обижались.
Николай Павлович почти всегда посещал эти утренние собрания. День его начинался рано. В девятом часу, после гулянья, пил кофе, а в десятом его твердый шаг слышался в покоях царицы. Оттуда он шел заниматься делами. В первом часу вновь навещал ее, играл с детьми, после чего гулял. В четвертом часу кушал, в шесть вновь гулял, в семь пил чай с семьей. Одет бывал попросту – в сюртуке без эполет.
«Боже, какой у вас утомленный вид!» – восклицала Александра Федоровна. «Страшно много дел», – отвечал он. После чая еще два часа отводилось на занятия, в десятом часу ужинал, вновь гулял и около полуночи ложился почивать. Из распорядка дня императора видно, что семье он отводил немало времени, но и гулянью тоже.