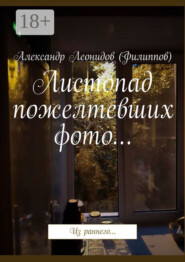По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исторические новеллы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плохо себя чувствовал и Мурсила. Он старался не подавать виду, но трупный яд проник и в его кровь, и постепенно болезнь, исходившая из нагнаивающихся трепаных ран, брала свое.
Лев возник в проломе земляничного плетня, проход ему был свободен в самое сердце охотничьего табора. В свете узкого месяца и пышных южных звезд его глаза послали Ттуту Хали зловещий блик. Единственный в отряде бдительный воин, Ттут метнул драгоценный (дороже золота!) дротик с железным наконечником прямо между бликов звериного взгляда…
Льву ещё не приходилось встречаться с жалом железа. Медь была неприятна, но не так болезненна. От медных наконечников Лев носил на себе несколько царапин, но не шрамов. Первым из шрамов, который удалось ему нанести человеку, был бросок Ттута Хали. Дротик вспорол влажную розовую правую ноздрю зверя и раздирающе проскользил по массивному черепу…
Лев взвыл от нестерпимой боли, удесятерившей его ярость. Удары его могучих лап разбрасывали в стороны людей и свиней, но он был несколько дезориентирован. Для льва нос – то же самое, что для нас глаза, и когда все запахи, кроме собственной крови, разом пропали, лев почувствовал себя, как ослепленный.
Версила подскочил сбоку и обрушил на голову льва удар комелевой палицей. Если бы Версила бы немного умнее или опытнее в охоте, он бил бы по хребту, чтобы сломать позвоночник. Но Версила специально прицелился в голову, думая, что так вернее добьётся своей цели.
А череп льва – самое прочное у него место. Удар страшной силой, комелем окаменевшей дикой сливы, не убил льва и даже не оглушил. Череп выдержал, комель соскользнул с него, и увлек Версилу за собой в падение. Лев, оглоушенный, но не оглушенный, рубанул по воздуху когтистой лапой: Версила, падая, взвыл так, словно ему разом вырвали все внутренности…
Ттут Хали был уже рядом. Он ударил льва пикой в бок, но деревянное самшитовое древко пики переломилось, удар в сердце зверя пошел криво, словно загнувшийся гвоздь при косом ударе молотка. Ттут что-то повредил зверю, это было ясно по ржаво-мяукающему рыку, но что именно – неясно, и, видимо, не такое важное, как сердце.
Лев всем корпусом развернулся на Ттута. В нимбе звездного неверного скупого освещения он казался ещё огромнее, чем был. Из рваной ноздри сочилась и капала кровь. Из рассеченного надбровия кровь стекала зверю в глаз. Лев был страшен и безумен: боль сделала из машины для убийства машину возмездия.
Лев прыгнул. Ттут, в свои 17 лет уже не раз коловший львов (правда, помельче этого, куда как помельче – метнулось у него в голове) – подыграл, навзничь упал, больно стукнувшись обо что-то затылком. У бедра он сжимал кинжал, рукоять которого упер в землю. Менее опытный охотник попытался бы конечно, прикрыть кинжалом себя, выставить его перед собой. Ттут знавал таковых в Адании: всех их он под вой родни схоронил.
Дело в том, что сила и масса льва либо отклонят кинжал с легкостью былинки, либо (бывало и такое!) – лев «сядет» на лезвие кинжала, а рукоятка пробьёт охотнику грудь и выйдет у позвоночника…
Ттут не дал себя обмануть коварной судьбе, и держал свой длинный железный нож у бедра, с надежным упором в плоский камень. Жаркое и зловонное, шкурно-колючее навалилось на Ттута, обволокло собой удушьем смерти, словно бы завернули в ковер, не пропускающий воздуха. Кинжал не подвел: клинок вошел глубоко в зверя, пробив и шкуру и ткани его брюшины…
…Если бы это был лев привычных размеров, из тех, коих бивали возле Адании, то он тут же и сдох бы. Но это был лев Палавы, тень лувийской богини смерти, это был Клыки Ночи. Его колоссальные размеры были слишком велики даже для длинного клинка охотничьего кинжала Ттута Хали…
Изумленный и наконец-то, напугавшийся, лев пружинисто отпрыгнул от Ттута, и некстати напоролся на кривоколье земляночного плетня. Лев, наконец, понял, что «клыки ночи» кусают уже не кого-то постороннего, а его самого. В эту ночь Клыками Тьмы по заслугам стал храбрый Ттут из рода Хали. Но лев лучше людей ориентировался в ночи. Он нашел в плетне пролом, через который его провели ценой собственных жизней дикие свиньи, и выпорхнул – буквально бабочкой, если не считать брызжущую из «ночной бабочки» вполне плотоядную кровищу – в свои охотничьи угодья…
* * *
Лев ушел с порванной ноздрей, рассеченным надбровьем, кровоподтеком на макушке и рваной раной в паху. Он проковылял к себе в верхнее убежище и залег там в расщелине на костях, перекрашивая их в красный цвет из обглодано-белого.
День упал на разрушенный харийский лагерь светом и жаром. Ттут целебными травами промакивал свои царапины, некоторые из которых оказались довольно глубокими. Походя, легчайшим касанием лев располосовал Ттуту лицо. Если бы лев вложил в этот удар чуть больше силы – у Ттута уже не было бы лица. Но к счастью для сына табарны (так харийцы и хатти называли вожака табора – слово дожило и до наших дней) лев промазал, удара не рассчитал, и смертоносные когти лишь задели кожу, не сумев её толком зацепить.
Юноше Супу Пилу стало совсем плохо. Ему вправили сломанный секачом нос, но болезнь все глубже проникала в кровь. Свалился днем и Мурсила. Тяжелые раны несли на себе даже более опытные воины, уже отметившие 15 зиму, Задар и Торанна.
Но харии мало внимания обращали на погром – каждый подходил к своему вождю табора, восхититься его мужеством, реакцией и сноровкой. Воины со знанием дела (больше напускным, чем реальным) осматривали царапины поперек лица Ттута и высказывались, как опытные охотники:
– Ишь ты! Такое вот опахало у Клыков Ночи!
– Да уж! Обдул ветерком от лапы… Сама-то лапа промазала, это от неё только сквознячком дохнуло при пролете…
– Ещё бы на зерно поближе прошло – и был бы ты, табарна, без кожи… Снял бы с тебя лев лицо, как маску-харю на празднике со жреца…
– Да, табарна Ттут, угостить ты всех должен, это уж верно! Не каждый раз тебе горный лев в рабах с опахалом служит!
И только Торанна, угловатый и сильный, из-за рваной раны не склонный к шутками, мрачно спросил по делу:
– Теперь-то куда, табарна?
– А сам как мыслишь? – прищурился на плоть плавящее Солнце Ттут.
– Мыслю – надо по крови идти. Зверюга весь свой путь до логова окропил… Пойдем да добьём!
– А о том не подумал, храбрый Торанна, что у нас много раненых и больных… – покачал мудрой головой Ттут. – С собой понесем, льву на закуску с похмелья вчерашнего? Или тут оставим…
– Ясное дело, тут оставим! – загомонили все охотники, включая и Мурсилу, которому явно предстояло остаться: он был пепельно-бледен, словно труп, и весь сочился тяжелой мутной испариной.
Ттут был старше и мудрее всех. Он был табарной – начальником одновременно и назначенным, и выбранным (именно так – при сочетании рода и выбора назначались вожди у харри и хатти). И он уже думал не о славе с доблестью, а о людях, которых ему доверила судьба.
– Решаю так! Раненых и больных отнесем в Палаву. Пусть лувийцы позаботятся об их здоровье, иначе на что нам рабы? Оставшись малым крепким числом, вернемся к табору, сюда, и отсюда пойдем по следу зверя, добивать в логове…
– День потеряем… – заныл Задар, мечтавший поскорее поквитаться с косматым обидчиком. – След потеряем… Свиньи склона слижут всю кровь, да ещё навалят дерьма поверх слизанного…
– А ты что предлагаешь? – сыграл в народоправца Ттут.
Задар не нашелся, что возразить: ростом он был велик, выше Ттута и шире в плечах (одно, впрочем, распоротое, ныне провисало), но умом весьма мал. Драться Задар любил, но в смысл драк никогда не вникал: бьют – значит, надо.
…Из толстых лиан нарубили носилки, сложив их наподобие кокона и перевязав поперек лианами потоньше. Тех, кто как Суп, сам идти не мог, взяли на носилки. Остальные болящие поплелись своим ходом. По дороге Ттут думал о политике: отец не одобрил бы таких галсов на охоте. Лувийцы – коварные, слабые, но жестокие рабы. Они покорны, пока видят сынов неба в хариях. Хариев мало. Покажи харии слабость – лувийцы могут восстать. Они ради своих гнусных обрядов не щадят даже собственных первенцев мужеского пола; что они сделают с чужими и ненавистными хариями, если утратят страх?!
«Ты слушаешь сердце, сынок, а не разум! – предстало перед Ттутом лицо Лобаря Хали. – Ты сейчас придешь в Палаву, где живут лувийские смерды числом несколько сотен бездуший (ибо харии не всем оставляли право иметь душу). Ты припрешься без льва, за которым пошел с волшебным железным оружием, но сильно подранный, с расцарапанной рожей, словно семит-подкаблучник после ссоры с женой. Что станут думать о тебе носители рыбьей крови лувийцы? И что они будут думать потом, если льва ты так и не добудешь? Они могут усомниться во всемогуществе харийского духа…»
«Отец мой и господин, табарна Лобарь Хали! – мысленно, но по-жречески высокопарно возразил Ттут. – Ты сам учил меня и всех иных в Адании, что кроме СИЛЫ выжить должен быть найден ещё и СМЫСЛ жить. Ты тоже рисковал, когда сразу запретил резать рабынь над могилой знатных хариев и братьям жениться на сестрах! Это было покушение на устои древнего харийского духа, и тебе пеняли, но ты тогда ответствовал: „Дух не един, но два, один Божий, другой злой, и дух Божий все оплодотворяет к жизни, дает силы роста травам и силы дыхания людям, а злой дух исходит из мест тлена и разложения“… Так учил ты, научитель от кисваднийского табарны, и сам табарна Адании. Лувийцы весьма гнусны: каждый из них кажется мне полем, которое распахала для себя община вшей, и гниды – семена их. Лувийцы не знают правды и не различают мести врагу от насилия над незнакомцем. Доселе, отец и табарна мой, мы держали их страхом, но страх – межа полей доброго и злого духов… Возможно, мы покорим их поклонению жизнетворящему духу более, чем страхом, кто знает?»
Палава встретила отряд хатти весьма настороженно. Лувийцы одновременно и печалились неудаче охоты на людоеда, и радовались провалу замыслов своих заносчивых господ. Ттут приказал старосте деревни разместить поудобнее раненых и больных, выложив их постели пучками дикого сельдерея (только этим в лувийских хижинах и спасались от вшей и клопов) и подать обед. Староста прятал в грязной бороде мерзкую улыбку: охотники, которые добывают дичь, – просят обеда! Ну не позор ли?
За обедом харийцам подали длинные волокнистые куски белого мяса. Харийцы с аппетитом съели его, не догадываясь, что это одновременно проклятие и унижение: их накормили мясом змей.
Само по себе оно вкусно, питательно и совсем не ядовито. Харийцы, особенно в переходах через пустыни и степи, много и охотно ели змей. Не то лувийцы; они поклонялись змеям, считали их священным животным. Подложить в пищу гостю мясо змеи считалось оскорблением и навлечением несчастий. Именно так привечали харийцев Ттута лувийцы с показными улыбками радушия. Соседство с львом-людоедом не радовало Палаву, но и соседство с хариями – тоже. Идеальным, по мысли лувийцев, сочетанием обстоятельств стала бы смерть льва от ран после того, как он истребит отряд хатти.
Подчеркнув старейшинам всю их ответственность за жизнь и здоровье оставленных на их попечение членов табора, Ттут поспешил налегке к месту ночного боя. Успели к полуразрушенному лагерю уже затемно. Нечего было и думать, чтобы идти за клыками ночи через ночь! Наскоро нарубили миртовых пахучих жердей и заделали пролом. После расставили караулы и легли спать.
Ттут не спал. Мысли об удаче и неудачи в судьбе хатти теснились перед его мысленным взором, раскрытым навстречу простору звездных алмазных россыпей на черном ворсистом бархате средиземноморской ночи.
Он, Ттут Хали, опытный охотник и воин, не убил льва-людоеда. Это неудача. Но и лев-людоед не убил Ттута. Это удача. Ттут ранил льва – и серьёзно ранил, и это охотницкая удача. Но Ттут явился перед лувийцами, словно бы созданными небом для прокормления вшей да блох, с подранками и безо льва. Это неудача. Удачно или неудачно проходит эта охота под кровавыми парусами? Если бы речь шла об обычном льве – решительно неудачно! Но если говорить о Клыках Ночи, особо крупном представителе вида горных львов, одном из последних пещерных львов Анатолии – напротив, следует говорить о редкой удаче: ведь сами Клыки Ночи никого не смогли оттащить на логово госпожи Смерти. Хотя… Из-за укусов проклятых падальщиков Суп Пил скорее всего, умрет, думал Ттут. И тогда одна потеря все же явится. Может быть, не справится с зараженной кровью и сильный Мурсила – тогда будет уже две жертвы среди хатти, а их враг ещё живой!
* * *
Клыки Ночи умирал в своей расщелине. Зелень, сверлившая корнями слоистый серый камень его скалы, кивала от ветра над его мордой, выпачканной в засохшей крови. Рваная ноздря продолжала неистово болеть, рассылая по всему телу судороги. Но она не угрожала жизни. Жизни угрожала рана в паху, рана, почти достигшая кишок, рана, не прекращавшая кровоточить и истощать могучий львиный организм.
Так прошел день – в ворчании и бреду, когда Клыки Ночи думал, что он снова львенок и снова должен прильнуть к материнским соскам, чтобы набраться сил, быстро тающих от игр в старой пещере. Клыки Ночи урчал, пытаясь найти сосок кормилицы, и в итоге нашел собственную рану между задних лап. Он стал не только лизать, но и пить собственную кровь, чувствуя, что постепенно приходит успокоение и силы восстанавливаются…
Ночью белый свет иглами звезд проколол черную бычью шкуру небосвода. Клыки Ночи совсем ослабел, несмотря на усердно впитываемые собственные соки, он в бреду пил уже кровь вместе с собственной непроизвольно вытекающей мочой и не замечал нелепости своего действия.
Ночью – по острому сытному запаху крови его нашли волки. Стая, поредевшая в битве с хариями, потерявшая вожака, дезориентированная, блуждала по склону вверх-вниз и почуяла легкую, как ей казалось, добычу. Поскуливая по щенячьи, трусили неровными орбитами вокруг расщелины мелкие средиземноморские волки-лалу (французы и сейчас зовут волков «лялу», а славянская «ляля», «лялечка», «люлька» восходит оттуда же – ласковое обращение к ребенку – «волчонок мой»). То и дело мелкий зверь, у которого весь жизненный тонус ушел в формирование мощной морды, совался к Клыкам Ночи, но, чуя сквозь пьянящую кровавую пелену запахов львиный смрад и слыша порыкивание, отбегал.
Постепенно, когда ночь с её шорохами чернильно сгущалась, стая лалу осмелела и совалась под самые лапы Клыков Ночи. Огромному зверю-людоеду казалось, что лалу – это его братья и сестры, львята его детского прайда, и он пытался, собрав остатки сил, играть с ними. Одного лалу, особенно пронырливого, дружески прихлопнул толстой лапой, прижал к земле. Зверь, чуя над собой запредельную мощь, вжался в землю, прижал ужи, поджал хвост и обмочился. Но Клыки Ночи не убил мелкого лалу, ему казалось, что это сестренка, которая пристраивается сбоку сосать материнское молоко…
…Постепенно, очень осторожно, пронырливый и глупый лалу, белой масти, задом отполз подальше из-под лапы, безвольно упавшей, и, взвизгнув, умчался прочь. Стая собратьев сперва поддалась его визглявой панике и тоже шарахнулась на сторону. Но, поплутав и понюхав корни здешних пихт и собственные хвосты, они вернулись, как переминающиеся с лапы на лапу ангелы смерти.
Серый лалу, наконец, набрался смелости и прянул на большого умирающего зверя, отхватил кусок львиной плоти от правой передней лапы Клыков Ночи, и был за это немедля убит левой лапой. Конвульсивно лев выпустил мощные когти, которые прошили тельце серого лалу, словно игла швеи – тряпку.