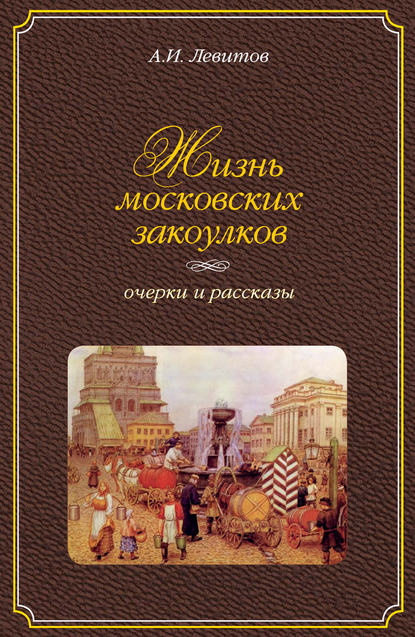По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и луку, заслуга его была награждена вовсе не пятачком, а просто-напросто шутливой трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали насчет его сиятельства графа Шереметева, т. е. «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой – и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет, уж посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».
На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки[36 - …оболочки… – искаженное: болонки.], принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастной девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с ней хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собой конурки, образовавшиеся в дровах, – конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.
Закусочная на углу Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка. Фотография 1912 г. Частный архив
– Это вчерашний барин-то покрикивает? – слышался шепот с чердака одноэтажной красильни.
– Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! – говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало сено под легкими ногами испуганной полночной силой кошки.
– А, бесы! – гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа. – Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? – спрашивает он наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы. – Где вы тут, ракальи[37 - Ракалья – негодяй, бестия, наглый подлец.]? – и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.
– Ты что же это, канальчонок, так крепко дрыхнешь? Не слыхал разве, как я тебя звал, шельменыш ты эдакой?
– Я думал, барин, что вы это не меня кличете…
– Цыц! Тебя или другого – все равно. Сейчас должен бежать, как только заслышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри: Фрицовской фабрикации[38 - …Фрицовской фабрикации… – немецкого производства.] спрашивай.
– Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла, – говорил испуганный мальчик. – Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказывают, и убежал.
– Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, канальи! Проливай после этого за них свою кровь! – шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.
И тут же, в довершение эффекта, раздается звонкий крик вчерашнего шершавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.
– Не пойду, не пойду! – кричит ребенок. – Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.
– А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?
– Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим, небось, не изнимете.
– Врешь, пойдешь! Вррее-шь, пойдешь! Ну, говори: пойдешь теперь?
– Пойду, пойду, барин! Сейчас летом полечу, пустите только…
– Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ничем не изнимешь. Ну, бежи же да смотри: у меня не зевать!
В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:
– У нас, ваше в-дие, не такой дом, чтобы в нем буянить! Буянство в нем тоже не дозволяют…
– Ш-што? – спросил прапорщик. – Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу…
Дворник моментально скрылся после этого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шершавый паренек, род которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.
– Я тебе в первый и в последний раз говорю, – протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику, – у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!
И все, что было живого в доме, навсегда запамятовало эти заключительные слова бравого солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, следовательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже и приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионерок-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины комнаты снебилью.
В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьяниных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома, – в эти вечера, сделавшиеся после Татьяниных комнат какими-то грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых, тем не менее, мучительно скорбит всякое новое сердце.
– Лукерья! – говорил кухарке один бородатый юноша, – подай свечи, да ежели Дуняша из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?
– Проказник вы, Петр Лукич! – улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.
– Что? – в свою очередь осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук. – Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?
– Комиссия! – отвечает борода. – Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? – сего никто понять не в состоянии.
– А вы ее, за слезы-то, взяли бы за белы руки да за длинный хвост – да на лестницу. А то не знает, как отвязаться! – поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду. – А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.
– Тише! – шепчет юный. – Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.
– Отцы мои! – ужаснулся Бжебжицкий. – Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозитка[39 - Депозитка – здесь: денежная ассигнация.] наяву. Так я, друг мой, в момент распоряжусь ужином. Только вот одежонку накину.
– Смотрите только, – трепещет юноша, – не просадите в бильярдной. Осрамите меня.
– Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут, – чем черт не шутит! – городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.
– Лукерьюшка! Дома Петр Лукич? – спрашивает цветочница Дуняша про бородатого счастливца. – Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.
– Ох, девушка, девушка! – грустно сказала Лукерья, – чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, – говорит, – ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, черт, тетка? Расфуфырена точно до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.
– Что же, она и теперича у него сидит? – торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным, шестнадцатилетним личиком.
– И теперь сидит. Барина-то того прощалыжного за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.
Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась гадать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у нее предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублев[40 - …красную бумагу в десять Рублев… – В 1786 г. Екатерина II особым манифестом повелела печатать ассигнации в 10 руб. на красной бумаге «для лучшего различения». Такой цвет сохраняли купюры этого номинала вплоть до 1991 г.] ценностью.
– Черт его, прости Господи мою душу грешную, знает! – шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. – Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом[41 - Бубновый дом – кабак, игорный дом.]; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали[42 - бубновая краля – молодая, беззаботная, незамужняя девушка.] вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так то-с! – закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.
Кухарка. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? – снова начала Дуняша. – Так и приказал что, дескать, не пускай ее, – меня, мол, дома нет?
– Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, унтер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? – Лопнут. Утроба-то ненасытная и то, может, лопнет. О чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.
– А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? – еще раз переспросила Дуняша.
– Что ж я тебе, дура, врать что ли стану? – с досадой ответила Лукерья. – Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?
– Ах, я разнесчастная, разнесчастная! – вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. – Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. – И с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкой грудью.
– Что ты, что ты, беспутница, делаешь? – закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшей девушкой.
– Куды те, полоумную, шуты несут? – кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.
– Что тут такое? что тут такое? – пугливо осведомлялась красивая, полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотой часовой цепочкой, развешенной на груди в виде адъютантских аксельбантов.
– Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, – говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.
На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки[36 - …оболочки… – искаженное: болонки.], принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастной девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с ней хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собой конурки, образовавшиеся в дровах, – конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.
Закусочная на углу Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка. Фотография 1912 г. Частный архив
– Это вчерашний барин-то покрикивает? – слышался шепот с чердака одноэтажной красильни.
– Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! – говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало сено под легкими ногами испуганной полночной силой кошки.
– А, бесы! – гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа. – Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? – спрашивает он наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы. – Где вы тут, ракальи[37 - Ракалья – негодяй, бестия, наглый подлец.]? – и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.
– Ты что же это, канальчонок, так крепко дрыхнешь? Не слыхал разве, как я тебя звал, шельменыш ты эдакой?
– Я думал, барин, что вы это не меня кличете…
– Цыц! Тебя или другого – все равно. Сейчас должен бежать, как только заслышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри: Фрицовской фабрикации[38 - …Фрицовской фабрикации… – немецкого производства.] спрашивай.
– Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла, – говорил испуганный мальчик. – Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказывают, и убежал.
– Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, канальи! Проливай после этого за них свою кровь! – шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.
И тут же, в довершение эффекта, раздается звонкий крик вчерашнего шершавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.
– Не пойду, не пойду! – кричит ребенок. – Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.
– А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?
– Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим, небось, не изнимете.
– Врешь, пойдешь! Вррее-шь, пойдешь! Ну, говори: пойдешь теперь?
– Пойду, пойду, барин! Сейчас летом полечу, пустите только…
– Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ничем не изнимешь. Ну, бежи же да смотри: у меня не зевать!
В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:
– У нас, ваше в-дие, не такой дом, чтобы в нем буянить! Буянство в нем тоже не дозволяют…
– Ш-што? – спросил прапорщик. – Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу…
Дворник моментально скрылся после этого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шершавый паренек, род которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.
– Я тебе в первый и в последний раз говорю, – протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику, – у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!
И все, что было живого в доме, навсегда запамятовало эти заключительные слова бравого солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, следовательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже и приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионерок-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины комнаты снебилью.
В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьяниных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома, – в эти вечера, сделавшиеся после Татьяниных комнат какими-то грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых, тем не менее, мучительно скорбит всякое новое сердце.
– Лукерья! – говорил кухарке один бородатый юноша, – подай свечи, да ежели Дуняша из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?
– Проказник вы, Петр Лукич! – улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.
– Что? – в свою очередь осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук. – Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?
– Комиссия! – отвечает борода. – Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? – сего никто понять не в состоянии.
– А вы ее, за слезы-то, взяли бы за белы руки да за длинный хвост – да на лестницу. А то не знает, как отвязаться! – поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду. – А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.
– Тише! – шепчет юный. – Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.
– Отцы мои! – ужаснулся Бжебжицкий. – Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозитка[39 - Депозитка – здесь: денежная ассигнация.] наяву. Так я, друг мой, в момент распоряжусь ужином. Только вот одежонку накину.
– Смотрите только, – трепещет юноша, – не просадите в бильярдной. Осрамите меня.
– Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут, – чем черт не шутит! – городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.
– Лукерьюшка! Дома Петр Лукич? – спрашивает цветочница Дуняша про бородатого счастливца. – Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.
– Ох, девушка, девушка! – грустно сказала Лукерья, – чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, – говорит, – ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, черт, тетка? Расфуфырена точно до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.
– Что же, она и теперича у него сидит? – торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным, шестнадцатилетним личиком.
– И теперь сидит. Барина-то того прощалыжного за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.
Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась гадать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у нее предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублев[40 - …красную бумагу в десять Рублев… – В 1786 г. Екатерина II особым манифестом повелела печатать ассигнации в 10 руб. на красной бумаге «для лучшего различения». Такой цвет сохраняли купюры этого номинала вплоть до 1991 г.] ценностью.
– Черт его, прости Господи мою душу грешную, знает! – шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. – Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом[41 - Бубновый дом – кабак, игорный дом.]; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали[42 - бубновая краля – молодая, беззаботная, незамужняя девушка.] вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так то-с! – закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.
Кухарка. Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация». 1870 г. Государственная публичная историческая библиотека России
– Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? – снова начала Дуняша. – Так и приказал что, дескать, не пускай ее, – меня, мол, дома нет?
– Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, унтер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? – Лопнут. Утроба-то ненасытная и то, может, лопнет. О чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.
– А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? – еще раз переспросила Дуняша.
– Что ж я тебе, дура, врать что ли стану? – с досадой ответила Лукерья. – Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?
– Ах, я разнесчастная, разнесчастная! – вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. – Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. – И с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкой грудью.
– Что ты, что ты, беспутница, делаешь? – закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшей девушкой.
– Куды те, полоумную, шуты несут? – кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.
– Что тут такое? что тут такое? – пугливо осведомлялась красивая, полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотой часовой цепочкой, развешенной на груди в виде адъютантских аксельбантов.
– Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, – говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.