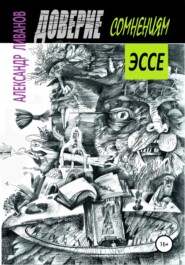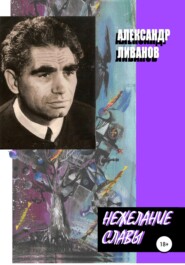По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солнце на полдень
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы знаете моего отца? – изумилась тетя Клава. – О, он совсем старенький теперь! Не служит. Да и церковь закрыли. Со мной, здесь в городе, доживает. Тоже как ребенок… Много детей у меня, как видите!.. Зашли бы, проведали отца. Навещают его иногда бывшие прихожане…
– Пойду на занятия, – говорю я. И, скорей следуя детдомовской вежливости, чем собственному побуждению, выдавил из себя – «до свидания». Последнее адресовано, конечно, дядьке. Меньше всего хотел бы я, чтоб было еще одно «свидание»!..
Я тоскую по родной деревне, по умершей маме, по Симону и Олэне, нашим соседям, нашей хате. Ничего и никого не осталось! Только воспоминания. Прежняя жизнь – словно во сне она мне привиделась. У меня такое чувство, что та жизнь была давно-давно; даже не верится – была ли она вообще? Может, и вправду она сон, который никогда уже не станет явью? Я теперь круглый сирота, а все чего-то жду…
Где вы, поля и левады, ставок за плетнем и тополя на околице? Неужели тот мир умер вместе с моей мамой? Ведь вот же, и в городе растут деревья, дворы в гусиной травке, серебристая полынь на пустырях. А я их словно не замечаю, и они меня тоже, каждый сам по себе. Да в решетчатых оградах, как в клетках, деревья! Многолюдный и шумный город как чужой для меня. Может, потому что нет в нем нашей хаты с двумя оконцами, где садок перед домом – вишенки, крученый паныч, подсолнухи и розовая, высокая, под самую стреху мальва. И мама, самая лучшая на свете. Какие ты, мама, знала песни! Особенно любил я одну, русскую, песню «Я простая девка на баштане».
Тоскую я по родной деревне, по ставку, по вербам у ставка. Разве кто-нибудь, даже тетя Клара, могут это понять?.. Тетя Клава меня считает скрытным. А я бы ночью, как слепец, или поводырем того же слепца, побрел бы, чтоб снова вернуться из города в свое нищее и счастливое детство, туда, где теперь могила мамы, живая боль и память о маме: в каждой травинке, каждом листочке, в грустном напеве сопелки поутру, в полете стремительных ласточек над вызревшей рожью.
Как тосковало мое детское сердце, как томилось оно печальным ожиданием, когда, бывало, на день, на один час расставался с мамой!.. Неужели я теперь расстался с нею на всю жизнь? Я все еще не могу в это поверить. Как можно жить на свете без мамы?..
И все же тетя Клава догадывается, что я трудно переживаю свое сиротство. Однажды, убирая коридор, я нечаянно подслушал разговор ее с Леманом. Она ему рассказала про то, что я украдкой плачу, никак не могу забыть родителей. Все же выследила…
– А вы забыли своих родителей? – спросил тогда Леман.
– Мой отец еще, слава богу, жив!.. – как бы с вызовом ответила поповна и злюще глянула на Лемана.
– Да, да, простите… Я хотел сказать, что никто не забывает своих родителей. Это естественное человеческое чувство…
– Да, но вы, наверно, читали Диккенса… У иных это как незаживающая, вечно открытая рана, в то время когда у других это – зарубцевалось, не болит… Люди разные, и дети – разные. Иначе – мы не воспитатели, а раздатчики корма!
– Диккенс, сентиментальщина и слезливость… Не люблю я это в вас, – негромко и сдержанно отозвался Леман. – К собачьей бабушке все это! Мы должны воспитать закаленных борцов. Советских граждан, преданных мировой революции!.. А вы – Диккенса! Дети воспитываются в коллективе…
– Вот это как раз – книжность! Общие места товарища Полянской. Слова, слова, – не соглашалась строптивая поповна. – Да и вы стали закаленным борцом потому, что в детстве были и добрым, и чувствительным… А бесчувственных и недобрых – на пушечный выстрел к мировой революции допустить нельзя. Только напакостят!.. Охота вам попугайщину товарища Полянской повторять? У нее ведь ни мыслей, ни слов своих нет. Что вычитает в газете – по заголовкам, – то и несет. А книги и вовсе не читает. Просто ограниченный человек. И вообще… обделена природой… Такие только в одном могут себя утвердить: взять верх над людьми! Командовать, попирать людское достоинство и этим как бы себя возвысить. Еще настрадаемся от таких выдвигающихся неудачников… Да, конечно, она предана мировой революции, но она же ей и вредит своей неинтеллигентностью. Тут лазейка для всяких озлобленных неудачников и дураков! Это я вам точно говорю… Вы меня все называете идеалисткой. А вот у Ленина сказано, что умный идеализм ближе к настоящему материализму, чем глупый материализм! Товарищ Полянская – «глупый материализм»!
…Тогда у меня как-то сделалось холодно в груди, тоскливо заныло под ложечкой. Я медленно водил шваброй по растрескавшимся, с облезлой краской половицам. Мне было очень совестно, что из-за меня тетя Клава и Леман вынуждены вести такой серьезный спор, что уже без помощи Ленина и не разрешить его! В глубине души я был очень рад, что Ленин был за меня и за тетю Клаву… Ведь вот сразу мой заведующий детдомом замолк, потом что-то сказал тете Клаве. Я не расслышал – что, но чувствовал: сказал ей что-то доброе… Наверно, похвалил за то, что Ленина читает.
Жаль, что за закрытой дверью я не видел лиц тети Клавы и Лемана. Голос тети Клавы был теперь ласковым и даже растроганным. Не голос, а сплошное щебетание! И Леман ее не перебивал: «Сдался, значит!» – думал я, почувствовав себя совершенно счастливым на минуту. Всегда хотел бы видеть их такими, нужными друг другу, ласковыми.
Это были две противоположности во всем, особенно во взглядах на воспитание. Но, кажется, дня не прожили бы друг без друга эти два человека! И то, что Леман, бывало, прогонял поповну, что тетя Клава вылетала из его кабинета со слезами на глазах, никак не означало, что через час он не призовет именно ее для совета, для срочного поручения.
* * *
Смущенный дядька Михайло между тем аккуратно освободил рукав бушлата от руки этой молодой и нарядной женщины в шляпке. «Оно и правда! Поесть бы мне счас – подороже каменного моста!» И вдруг, как бы о чем-то вспомнив, дядька задрал полу бушлата и запустил темную жилистую руку в карман порток. Вынул не то кисет, не то просто замусоленную кожаную мешульку на сшивальнике. Раздернул шнуровку и суетливо стал доставать деньги. «Рупь-другой мальчонке не помешает! Тетрадь купить или на представление».
Клавдия Петровна вся встрепенулась, точно хотела защитить меня от удара; она уже готова была выпалить что-то подобающее случаю, урезонить моего непрошеного благодетеля, но замерла и как бы осеклась на полуслове. Деньги, всякое вспомоществование, благодаря которым один какой-нибудь детдомовец мог бы вдруг обрести преимущество перед остальными, – все это было посягательством на главную нашу святыню: равенство. Во всем, от малого – до самой судьбы! Равенство было духом времени. И в ком еще, как не в нас, бездомных детях, усыновленных государством, будущих примерных, а может даже – образцовых, гражданах этот дух должен был воплотиться наиболее совершенным и полным образом!..
Но все же воспитательница моя, видно, в последний миг решила предоставить мне самому, по-родственному, решить эту нравственную задачу.
Словно почувствовав ответственность момента, я постарался быть на высоте питомца детдома номер сорок. О необходимости высоко нести честь эту призывал нас чуть ли не ежедневно и сам Леман и, конечно, тетя Клава.
– Не возьму я ваших денег! Спасибо! Нас кормят и одевают! Мы ни в чем не нуждаемся… И в кино нас даже водят бесплатно!.. – Пожалуй, это было больше похоже на личную заносчивость и гордыню, чем на отстаивание детдомовского достоинства. Почувствовав это, я тут же страшно покраснел – и от перебора, и от душевного усилия. И еще от совестливости: мы не нуждались, когда все – нуждались…
* * *
Про кино, впрочем, я не солгал. Вот уж это была поистине привилегия, о которой не могли мечтать даже возлюбленные чада самых состоятельных родителей города! Раз в неделю, а то и два раза тетя Клава нас водила в кино. В городе было два кинотеатра – «Коминтерн» и «Спартак». В каждом из них мы являлись желанными гостями. Разумеется, на детских сеансах. Для всех прочих детей стоимость билета была – тридцать копеек! Мы же – строем, взявшись за руки и по двое, сопровождаемые завистливыми глазами толпящихся у дверей ребятишек, у которых были родители, но не было тридцати копеек, гордо проходили в зал. Иные, попредприимчивее, тоже взявшись за руки, пристраивались сзади, чтобы прошмыгнуть вместе с приютом. Ради этой уловки нас ждали, высматривали издалека, затем изводили тетю Клаву просьбами. Она никому не отказывала, разрешала пристраиваться, хотя щеки ее покрывались красными пятнами от шума и всеобщего возбуждения, от требовавшейся здесь особой бдительности – не потерять бы «своего» ребенка в толчее! Пристроившихся билетерши нещадно вылавливали – даже после того как те наловчились обряжаться в серое и неприметное, под стать нашим серым рубашечкам из сатина и коротким штанишкам из «чертовой кожи» (о двух помочах, крест-накрест захлестнутых и на спине, и на груди). Добрая тетя Клава каждый раз представала перед искушением и страшным испытанием для ее чуткой совести. Очень хотелось ей провести в кино пристроившихся ребятишек, но когда тех вылавливали и к ней обращались билетерши за опознанием чужаков, лишь тогда она не решалась продолжить обман.
Зато какие это были мировые картины! «Мировые» – странное словечко это, из рекламного высокого слога попавшее в будничный обиход южных городов, означало тогда высшее мерило всего, что могло иметь ценность, материальную или моральную.
Среди мировых картин нам еще докручивали последние серии с непритязательными и неуклюжими Патом и Паташоном, с ловким и пройдошливым Максом Линдером, потрудившимся в меру сил своих у преддверья назревшего чаплинского искусства, мельтешили еще изрядно поцарапанные и изодранные за годы нэпа боевики с Дугласом Фербенксом и Рудольфом Валентино, с Гарри Пилем и Бестером Китоном. Умопомрачительные драки, погони, от смертельных опасностей спасаемые красавицы, самопожертвенная любовь и неизменный счастливый конец, ставший киноштампом, пресловутым «поцелуем перед диафрагмой». Нет-нет, нам показывали еще картины с Тарзаном, полузверем редкостного человеческого благородства и мужества. От одних названий, казалось, кружилась голова, кадры многократ, точно упреждая рождение мультипликации, множились в сновидениях. Сладкий, чарующий дурман, цену которому знает только тот, кто пережил это, мой современник, мой ровесник. Впрочем, если он не был детдомовцем, всегда ли у него были тридцать копеек, всегда ли он имел возможность смотреть и «Абрека Заура» и «Королеву джунглей», «Трипольскую трагедию» и «Нибелунги», «Мисс-Менд» с Коваль-Самборским, Комаровым, Ильинским и «Всадника без головы», «Красных дьяволят» и «Графа Монте-Кристо», «Закон гор» и «Зельми-Хана» с очаровательной Натой Вачнадзе. Не было еще тогда надписи «дети до шестнадцати лет», да и само киноискусство было младенчески целомудренным и добродетельным – дальше того же «поцелуя перед диафрагмой» вольность не заходила…
* * *
– Да, да, – ребята у нас ни в чем не нуждаются! – горячо подхватила тетя Клава мою проникновенную речь. Это было сказано с такой уверенностью и непререкаемостью, точно нашей жизни мог бы позавидовать любой отпрыск королевской династии, любой малолетний наследный принц. Тетя Клава даже просияла лицом, заполучив лишнюю возможность воздать хвалу нашему безоблачному, полному счастья и довольства детдомовскому существованию. Добрая душа, она все же успокоилась не раньше, чем опять по-свойски не коснулась кончиками пальцев рукава дядькиного бушлата.
– К тому же у него есть деньги, отцовские. – Она сделала глазами знак нашему гостю – минутку, мол, терпения, сейчас все прояснится. Давно тетя Клава искала, кому поверить тайну моего вклада. – Иди, иди, милый, на урок! – ласково проговорила тетя Клава. Я точно знал, что едва я уйду, тетя Клава будет нетерпеливо смотреть мне вслед, чтоб поскорее рассказать дядьке Михайлу подробности про отцовскую посылку…
Одно воспоминание про эту посылку поднимало из глубины души моей чувство тоски и стыда.
* * *
…Я узнал про посылку, когда ее уже доставили в интернат. Из уважения к детдому почтальон сам доставил ее на каком-то попутном шарабане. И почтальон, и хозяин шарабана, конечно, были убеждены, что сделали доброе дело, не дав лишнего дня пролежать посылке на почте. Шутка ли сказать, адресатом был детдомовец, сирота! И хотя на земле многое изменилось за последнее десятилетие, богоугодное, христианское чувство к сиротам еще прочно жило в человеческих сердцах. Было в этом и смутно-тревожное уважение к смерти, хотя и оставляющей на свете сирот, было и давнее, часто бессильное, сочувствие к судьбе самих сирот. Вообще еще по старинке люди были чувствительны, в беде все еще уповали больше на доброту человеческую, чем на законы. Молодое государство еще не успело по-деловому, без сентиментальности взвалить на свои неокрепшие плечи все тяготы и заботы подопечных граждан…
И вот – безвестный мне почтальон и такой же безвестный биндюжник, хотя, может, и позабыли бога, по привычке постарались сделать доброе – «божеское»! – дело для сиротки… Обычаи переживают причины, их породившие.
Именно обычай добросердия заставляет в пятницу, в наш банный день, приходить к воротам детдома безвестных женщин, с шайками, тазами и веничками. Они помогают тете Клаве и Фросе купать «сироток» – детишек меньшей группы. «Есть женщины в русских селеньях…» Доживают они свою глубокую старость упокоились где-то в безвестных могилах – земной, сыновний поклон вам, сиротским мамкам нашим!
Большая посылка лежала на стуле в чистом кабинете Лемана и всем неопрятным и нищенским видом своим, истлевшей бурой мешковиной с расползшимися по ней заплатами, корявыми буквами чернильным карандашом, означавшими адрес, всем нездешним видом она сразу вселила в душу мою тоскливую тревогу, смутное предчувствие неблагополучия и беды.
Видно, до моего прихода Леман и тетя Клава успели порядочно попрепираться – кому именно из них следует сказать мне о смерти отца. Они, наверно, так до конца и не договорились. По их тревожному переглядыванию, по искренней опечаленности я почему-то сам догадался о случившемся. А главное – посылка!.. Не зря вызвали меня из школы.
Я давно ждал подобного исхода. После смерти матери, моего поступления в «приют», как еще по старинке называли детдом, отцу просто не было для чего и для кого жить. Ему, отставному солдату, бросившему крестьянствование ради водки и книгочейства, всю жизнь упрекаемому в легкомыслии и себялюбии, оказалось невозможным жить для себя! Смерть матери, за многотерпение которой даже сельский мир (с угрюмой безнадежностью оправдывавший любую жесткую власть мужа над женой: «жену не бить, что корову не доить…») пророчил ей место в раю, – эта неожиданная смерть матери доконала и отца. Он словно и не замечал, не верил всю жизнь, что она терпит от него, что этим многотерпением держится вся нескладица нашей семьи. Отец был и впрямь слишком занят собой, запоем, своим страхом перед бессмыслицей жизни, страдальческими думками и эгоизмом страстотерпца. А проходил запой, он с угрюмой жадностью накидывался на книги, которые брал у попа, у отца Герасима, с которым вроде бы клеилось подобие дружбы. Читал все подряд, ища ответы на свою тревогу за человечество, за мир, на свои нескончаемые «почему?». Он не работал, обрекал на голод и себя, и семью, язвил мать после пьяных куражей тем, что скоро умрет, что страшно ему не это, а что умрет дураком… И вдруг такой досадный просчет, после болезни умирает мать, а он остался в живых…
В этом была не просто утрата, а еще одна каверза судьбы, еще одна злокозненность, и у отца уже не хватило сил ни на бунт, ни на смирение.
Много успел я передумать об отце, когда оплакивал его смерть, спрятавшись ото всех на чердаке, возле слухового окна и голубятни нашего Кольки Мухи…
* * *
…Отторженное от огромного мира и его опыта – живет наше детство. Солнечны его радости, не омрачаемые заботами старших, – безутешно и искренне его горе, не просветленное смирением опыта. Детство чувствует прежде, чем понимает. И не из эгоизма, а из одиночества душа его занята собой, его «я» и мир – почти однозначны, и лишь в материнской любви находит оно опору для жизни, смысл и суть ее, связь с непостижимо сложным миром взрослых. И пусть материнская любовь не продолжилась еще до общечеловеческой, – не отсюда ли, признанное всеми, что в детстве мы все поэты?..
Как мало мы знаем душу детства! А мир сиротской души – это уже вовсе затерявшийся в просторах океана остров – то среди жутких штормов, то под непостижимой равнодушной синью неба, остров, еще не приобщенный к упорядоченной жизни материка.
Потеряв мать, мы теряем связь с миром, и долго потом обретается чувство родины, обретается в душевных муках и самоотречении.
«Дитя неразумное!» – говорят взрослые, имея в виду детскую ранимую чувствительность. Даже любя детей, как мы, взрослые, мало уважаем их по-человечески! Как тесно и тяжело детям в нашем мире, загроможденном отвлеченными условностями и прямыми запретами, давящем предметностью и язвящим душу недоверием, назойливой требовательностью и мрачной властностью, которым детству еще не противопоставить искушенность ума и расчетливую волю. Как мы спешим упредить в детях собственные ошибки! Все и вся являет права на детскую душу. И долго еще, ощупью бредя по пути жизни, мы торопимся расти, – велика наша зависть к взрослым, которые так уверены в себе! – изгоняя себя из детства, из мира его мечты, из того мира, где человек, может, больше всего человек…
На пыльном чердаке, у слухового окна из косо врезанных истлевших дощечек – слепая лесенка: все слышно, ничего не видно – я оплакивал отца и впервые подумал – что ж это был за человек?.. Отец любил меня странной, застенчивой любовью непоправимой виноватости, каким-то невысказанным горестным чувством. Словно сознавал ошибку, дав мне жизнь, постоянно опасаясь, что сыну суждено быть в жизни таким же растерянным, неприткнувшимся, лишним для самого себя, как и он сам, суждено будет страдать и за себя, и за отца, породившего его в этом мире. Чем еще тогда можно объяснить ту смущенную печаль в глазах отцовских, когда он подолгу и молча смотрел на меня? Так, сожалеючи и задумчиво, со страдальческой смиренностью, уже ни о чем не вопрошая и молча, смотрят на безнадежно больного. Чем объяснить отцовские, редкие, впрочем, виноватые и задумчивые поглаживания по голове, обрываемую на полуслове речь, как бы сознающую всю тщету назиданий перед роковой неизбежностью судьбы?.. Пройдя сквозь ад и безумие первой мировой, лишившись ноги, оставшуюся жизнь отец воспринимал трагично.
Казалось, что снарядный осколок тогда, в шестнадцатом году, не только отнял у него ногу, но навсегда лишил ощущения основательности человеческого бытия. Я оплакивал отца, хотя было в этих слезах больше саможаления, жалобы на детдомовскую судьбу…
* * *
Буквы на посылке были прерывистыми, кривыми, не отцовскими. Я хорошо знал отцовский почерк! Крупные каракули, то тонкие, то не в меру жирные, – видно, часто и терпеливо мусолился огрызок чернильного карандаша – они уже этим вопили о беде, которая свалилась на меня. Я знал, что отец, похоронив мать, будет пить еще пуще прежнего, что он плохо кончит. Я ждал беды – и вот она пришла. Она приняла облик этой нищенской посылки в старом чувале с рыжими заплатами и карандашно-чернильным адресом…
Тетя Клава встала со стула, подошла ко мне, жавшемуся к дверному косяку, обняла и расплакалась. «Он умер?» – спросил я. Тетя Клава лишь крепче прижала меня к себе и закивала головой, слегка отвертываясь, чтоб не уронить слезу на мою сатиновую рубашечку. Юбка ее пахла духмяной ржицей, которой перекладывают вещи в сундуках – за неимением нафталина.
Леман почему-то тоже порывисто встал и вышел из кабинета. Видно, решил, что лучше нас оставить одних. Упредив посылку, оказывается, уже неделю ждало меня письмо – от квартирной хозяйки отца. Тетя Клава, вытирая слезы очень красивым, кружевным платочком, искоса поглядывала на меня. Я не плакал – тетя Клава это, видно, приписала моей мужественности. Она нервно сунула в обшлаг рукава блузки свой красивый платочек, расстегнула ридикюль, чем-то напоминавший мне корабль, разве что без парусов (она никогда не расставалась с этим ридикюлем-кораблем), и вынула письмо.