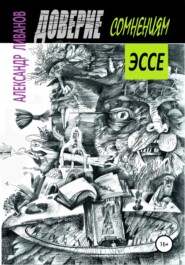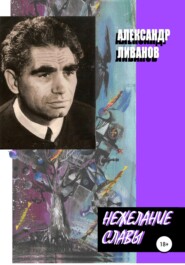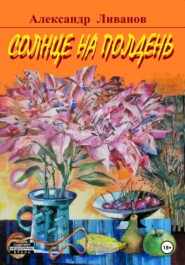По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Начало времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мария – дочь Терентия, хозяина мельницы и маслобойки; богатая невеста. Терентия еще пока не называют куркулем, пока еще дремлет на время усыпленный нэпом классовый инстинкт. Когда над куполом церкви гаснет последний зоревой свет и в школе меркнут окна, лишаясь золотого сияния, когда выкатывается на небо млечная луна, Терентий – ладонью с лопату – охорашивает сперва на голове жидкие волосы, затем окладистую бороду и садится на скамью перед гудящим самоваром. Ему, неподвижному как идол, суетливо прислуживает чахоточная, со впалой грудью и черными губами, жена; робко жмется по углам стайка приживалок в одинаковых, темных как ночь платочках с ярко-красными розами и золотистыми листьями. Терентий женщин не замечает, пьет чай долго, обдумчиво, до седьмого пота. Хозяин дома мрачен и неразговорчив; только всегда праздничная и быстрая, как синекрылая ласточка, Мария может заставить Терентия поднять насупленные казацкие брови. Оттаявшим вдруг лицом он провожает дочь от стола до порога, от скрыни до вмазанного над печуркой зеркала. И разглаживаются тогда на лбу Терентия каменные черные морщины и в зеленых глазах светится задумчивая печаль.
Терентий – крепкий хозяин! Две пары быков, запрягаемая в бричку пара серых жеребцов, две коровы. Марию, лучшую певунью села, мать всегда ласково привечает. Мария красивая, и даже я это чувствую. Мать говорит, что у Марии доброе сердце. Когда я не смотрю в колодец, я смотрю на Марию. Какой нежный румянец на щечках ее, какие у нее свежие, алые губы! И нарядилась Мария потому, что сегодня воскресенье и она приглашена к кому-то на свадьбу: «на весилья».
Вдруг Мария вся встрепенулась, заволновалась, словно бабочка от внезапного порыва ветра. От нее веет ароматом цветущих лугов; на высокой груди огненно блещут монисты, тонко звенят стеклянные бусы: мимо колодца идет Григорий-почтарь! Одной рукой он придерживает сумку-корабль, в другой у него вербная палочка. Палочка вся испещрена-изрезана перекрещивающимися в зеленой коре светлыми спиралями-змейками да шахматными клеточками. Григорий снимает свежий соломенный брыль, приветствует женщин.
– Куда спешишь так, Григорий. Постой с нами. На Марию вот посмотри. Гарная невеста! Упустишь – жалеть будешь! – говорит мать.
– Да он небось на городской женится, – вставляет Мария, красиво щуря глаза и кокетливо отставив ногу в сапожке. Прохладным молочным ручейком струятся белые зубы Марии.
– А я ни на какой не женюсь… Вдовушек хватает! – бросает Григорий, краснеет и спешит в село.
Насчет «вдовушек» – одни слова. На селе знают, что Григорий «схимник» и давно влюблен в Марию. Мать укоризненно улыбается. А Мария, уже не надеясь на женскую дипломатию, отчаянно кричит вдогонку Григорию:
– Приходи на весилья!
…Мария богатая невеста. Григорий же бедняк, и вообще даже не мужик. Жалкие гроши для Терентия его семнадцать рублей жалованья. Не о таком зяте думает Терентий. Но любовь не считает рубли, не ищет выгоды; как половодье, она сносит плотину предрассудков. А пока Григорий не смеет надеяться и мучается; Мария, неуверенная в его любви, тоже мучается; Терентий не чает души в дочери и ворочается в постели, не спит по ночам, думает, думает…
Мы расстаемся с Марией. Она вдруг погрустнела, и я догадываюсь, что к колодцу она вышла не по воду, а чтоб увидеть Григория. Так вот она любовь, про которую столько говорят люди!.. Влюбленных сельчане жалеют, о любви часто говорят чуть ли не как о роке, беде или болезни. Особенно когда любовь идет вразрез с родительской волей. А это почти всегда так. Замуж отдают родители, женят – родители; любовь – блажь, которая должна пройти; она терпима, пока парень «парубкует», а молодица «гуляет». За нуждой и тяготами жизни старшие быстро забывают, что сами были молодыми. Любовь – несерьезно. Серьезно – это по-хозяйски слаженное замужество, приданое, состоятельное родство. Стерпится – слюбится. После замужества – молодицы нет больше, есть баба. И наряжаться ей уже не положено, и общаться с молодицами не приходится. И платочек по-другому – по-бабьи – повязан, и уньку, короткую и стройно обтягивавшую бедра, сменяет широкая, длинная, бабья унька. И посидеть, погутарить с молодицами – легкомыслие, непутевость. Осудят злые языки. Стыда не оберешься!..
Грусть Марии передалась и мне. Может, я влюбился в нее? Влюбился же я с первого взгляда в Лену, младшую дочь поповскую, учившуюся в городе. Впрочем, возможно ли не влюбиться в Лену? Во-первых, Лена вся-вся городская: от шевиотовой жакетки в обтяжку, длинной и узкой юбки, снизу зигзагом обшитой темной шелковой тесьмой, туфелек на высоком каблуке до глубокой, по моде сдвинутой набочок, кепки с кнопочкой посредине. Какая Лена красивая в кепке! Не барышня, а картинка.
Мать вскоре смекнула, что я влюблен в Лену. Каждый раз, когда Лена приходит к нам, мною овладевает дикая застенчивость, и я поскорей скрываюсь на печи. Оттуда, из-за печной трубы, как из засады, я жадно, во все глаза смотрю на поповскую барышню. Она излучает какое-то розовое сияние, и сердце мое разрывается от нежности. Как-то мать, смеясь, обратила внимание моей избранницы на запечное любовное томление своего робкого поклонника. Та, улыбнувшись, быстро взглянула в сторону печи: кажется, она меня так и не успела заметить; я тут же юркнул за печную трубу…
Я помнил Лену – всю до мельчайших подробностей. Даже с закрытыми глазами я видел ее стремительную походку, разлетающиеся льняные волосы и большие незабудковые глаза. А главное – улыбка! Что это была за улыбка! Она озаряла лицо Лены, казалось, маленькое солнце вдруг заявлялось к нам в хату, и все, каждый предмет, и мальчишеская душа моя отзывались ответным радостным светом, чувством первого вешнего солнечного дня. Столько в улыбке этой было прелести и приязни, тепла и доверчивости к людям! У меня кружилась голова, в радостной истоме билось сердце, точно я, выйдя за плетень, взбегал по косогору вверх, к цветущему лугу, навстречу макам и вьюнкам, ромашкам и колокольчикам, к полям белоснежной гречихи и голубого льна…
Помню, как с появлением в нашей хате Лены вдруг молодели лица отца и матери, Марчука и Симона. Вдруг кончались споры, все умолкали, чтобы слушать гомонливый говорок Лены, ее заливистый смех, подобный ручейку среди тех же цветущих цветов на вешнем лугу.
У Лены легкая и стремительная походка. Своей милой приветливостью, ямочками на щеках, жемчугом зубов, а главное, улыбкой из света и тепла Лена радует всех встречных. Лена очень восторженна, она любит и маму, и учителя Марчука, и подсолнухи, и мальвы перед нашим окошком. Даже какой-нибудь серо-ржавый и хохлатый воробушек на сиреневой ветке для Лены – «прелесть!». Белобородого отца, батюшку Герасима, Лена так тормошит, так горячо целует, что тот краснеет от смущения и неловкости за свой сан.
«Обожаю поэзию!» – восклицает Лена. Она всегда носит с собой маленькие красивые книжицы, из которых выглядывает витой красный шнурок с кисточками на концах – закладка. Лена с большим чувством вычитывает из книжицы русские стихи, растрогавшись, порывисто прижимается к моей матери, точно родная дочь. Лена будит в душе моих родителей смутные, похожие на ожоги, воспоминания быстротечной красоты, всего того, что затаенно и целомудренно укрыто от житейских невзгод, что не нашло выхода из собственной души, не стало светом единения. Отец и мать смотрят на Лену изумленно, с глубокой радостью, и застенчивые улыбки цветут на их устах.
…Когда Марчуку случалось застать у нас Лену, он становился рассеянным, неразговорчивым. Возьмет из рук девушки книжку, полистает, задумается или с отсутствующим лицом слушает, о чем она говорит. А чаще всего вставал и спешил к двери.
– Куда же вы? – скажет мать, и Марчук в той же забывчивости вернется на место. Сидит, нахохлившись, молча слушает и не слушает, как Лена рассказывает про городские новости.
– Ты ничего не заметила? – однажды после ухода Марчука и Лены, обратился к матери отец. – Как это Марчук на молодую поповну смотрит?
– Глаза есть – вот и смотрит. И ты тоже смотришь, – прервала мать. Мне казалось, она не хочет говорить об этом с отцом.
– Экая ты дурная, Хима! Смотря как смотреть и с какой думкой!
– Да не пара они, – вдруг сказала мать. Сказала отрешенно, как бы сама себе.
– Парами лапти бывают, а не люди… Придумали слово, тоже… – ворчал отец.
Мать молчала. Она знала все тайны Лены, но распространяться о них считала себя не вправе.
– А ты думаешь, у Марчука это серьезно? – успокоившись, опять заговорил отец.
– А ты сам бы спросил у него. Он ведь твой друг…
– Об этом не спрашивают, если сам человек не говорит…
– И то правда, – вздохнула мать и поспешила занять руки кочергой. В непонятном волнении отставила кочергу обратно в угол, рванула за проушины полупустую кадь с помоями и вышла из хаты.
Я жду приезда Лены. Приезд – это ка-ни-ку-лы. В слове этом мне чудится кукование кукушки, далекое и манящее, зеленый и радостный мир, полный ароматов и цветных бликов, непостижимый и прекрасный. Лена приедет на каникулы! Я стесняюсь расспросить у матери: когда будут каникулы?
…И опять зарей зажжено небо, залиты поля и луга. Воздух розовый, косогоры и сады – все кругом кажется застывшим, вечным очарованием. Все ждет и не дождется Лены. Тишина такая, что громким кажется скрип ведер на коромысле матери. И вдруг мать останавливается, делает мне знак умолкнуть и внимательно слушает тишину. Лицо у нее молодеет, на нем какая-то очень добрая задумчивость. «Слышишь?..»
Да, я слышу! Это там, на закате, далеко-далеко в полях поют. Женские голоса. И песня тоже, кажется, из зарева, малиновая, ею напоены и воздух, и небо.
– Хорошо поют, – вздохнув, говорит мать. – На весилья идут девчата.
Мимо нашей хаты с сумкой проходит Григорий-почтарь. Отец окликает его, и тот без особой охоты сворачивает к нам. Поздоровавшись, Григорий присаживается на завалинке рядом с отцом. Деревянная нога отца основательно покоится на земле. На круглом конце ее – железное кольцо, для крепости. Этим железным кольцом, как некоей антенной, отец касается земли, выслушивает планету; ее недра, сушь и водь держат отчет перед отстреленной австрийским снарядом ногою отцовской. А отец, уперев локти в колени, голову возложив на руки, как бы слушает и обдумывает дела, которые вершатся на земле. Он часами может сидеть в такой позе.
Мать выходит из хаты, говорит отцу, что надо бы борова у печи почистить, «а то сажа уже тлеет в них – как бы, не дай бог, пожара не было»; отец прерывает мать: «не мешай, – вишь, думаю». Мать замечает, что «каждый человек думает». Отец приходит в раздражение. Все дело, мол, в том – о чем и как думать! «Василь – о кишке, Терентий – о мешке, а Йосель – о мошне – разве это значит думать!»
Мать вздыхает и уже шепотом, чтобы не перейти предел отцовского раздражения, добавляет, что из всех его думок ей и жидкого кондера не сварить…
Напомнив про сажу в печных боровах, мать все же помешала отцу думать. Ей теперь придется выслушать о мыслях, навестивших отца и прерванных ее приходом. На той же завалинке мать присаживается на почтительном расстоянии от отца. Она слушает его рассуждение про образование. На лице матери виноватая улыбка. Просто так сидеть без дела ей совестно. Большим рукам ее со вздувшимися венами и искривленными от труда пальцами очень неуютно. Мать не знает, куда руки деть. То обопрется ими о вытершийся до камня-ракушечника угол завалинки, то положит их на колени. Наконец руки успокоились на груди. А отец продолжает толковать про образование, которое самому-то отцу не досталось. Умный человек, толкует отец, и без образования умен. Зато из дурака оно делает заносчивого дармоеда; что мелко душных людей образование делает еще мельче и злее; что образование, больше чем для дела нужно, то же, что в кулеш соли переложить; наконец, нельзя, мол, взять и человеку образование – дать! Он сам его должен взять!..
Мать слушает и думает про себя: ну зачем это все отцу? Чудной, чудной мужик…
Почему-то отец не любит Григория. Как он его только не обзывает! И «красивый бычок», и «грамота дураку вредна», и «ни рыба ни мясо». Соперничество двух сельских грамотеев? Вроде бы нет. Григорий грамоте научился в Красной Армии, из которой недавно вернулся, и совершенно не кичится этим приобретением. Оно ему далось легко. На большее, чем почтарские дела, он его не распространяет. Скорей всего отец находит, что мала отдача от образования почтаря.
– Что сегодня в газете? – спрашивает отец улыбающегося Григория.
– А то я ее читал? – простодушно продолжает улыбаться Григорий. – Много в ней всякого написано, а что к чему – бис его знает!
– Ладно, ладно. Хай черт, хай бис, абы яйца нис. Зачем только тебя научили читать! Дай-ка мне «Висти» («Известия») батюшки. Прочитаю и сам ему занесу.
И в который раз уж Григорий берет грех на душу! Отдает отцу поповскую газету. Почтарь неодобрительно сплевывает сквозь сжатые зубы («с-сык!»), вытирает платочком лицо и шею. Отец какую-то секунду презрительно смотрит на платок – городскую штучку. Можно подумать, что Григорий, обойдясь этим красивым, белым с синим, платком, сделал непристойность. «Ну, давай, ступай себе с богом. Я читать буду».
Переступив целой ногой – для надежности опоры – отец углубляется в чтение. Винтом вывертывая голову, я заглядываю в газету и под нее. Нет в ней картинок! Я рассматриваю сапог отца. Единственный сапог его весь в заплатах и заплаточках – овальных, круглых, продолговато-закругленных. Кое-где заплате не хватило места и она залезла «внахлест» на заплату-предшественницу. Все заплаты по краям – в радиально расходящихся, вытертых и коротких лучиках дратвы. Так городские дети рисуют солнце…
Сапожник Панько, у которого мы недавно были, не хочет чинить отцовский сапог («кожа сгнила, под дратвой рвется»), уговаривает отца надеть, как все, постолы или лапоть. Отец и слушать не хочет сапожника. Я чувствую, что Панько очень стесняется говорить худое про казенный – «николаевский» – сапог отца. Сапожник быстрыми движениями острит об обломок точильного камня нож с ручкой в кожаном чехольчике, затем, попугав тараканов, разгребает из-под ног колодки, обрезки кожи, старые голенища, покоробившиеся и гнилые стельки – наводит порядок. Лицо Панько такое же измятое и морщинистое, как его старые голенища. Отец смотрит на Панько с горделивым осуждением, преувеличенно нахмурившись, будто и слушать ему такие глупости совестно. Сменить свой солдатский сапог на лапоть!
…Постепенно на завалинке собираются мужики, соседи, прохожие: всем интересно узнать: «що там, в столыци, пышуть».
Здесь и сосед наш Василь, со всем на свете всегда согласный, и старый дед Юхим, глухой как пень, вечно голодный, неухоженный бедолага с иконописным ликом, терпящий всяческие притеснения от злой снохи своей. Сквозь рваную рубаху проглядывает ребристая дряблая нагота дидуся. Кисти рук его темные и непомерно длинны. Про дидуся Юхима парубки наши сочинили частушку: «Как наш дедушка Юхим записался в совихим (то есть – осоавиахим), потому что он у нас крепче всех пускает газ». Дед любит «слушать» эту частушку: он ценит всякое внимание, особенно молодежи. Ни за что он не сознается, что не слышит! Парубки поют – он внимательно слушает, кивает в лад головой; они смеются – он смеется громче всех. Даже не поймешь, кто над кем смеется! И сейчас, ерзая по завалинке костлявым задом, дидусь Юхим смотрит в рот отцу. То ли впрямь пытается догадаться о смысле слов, то ли по привычке притворяется слышащим и понимающим. Иной раз дед забывает про свою роль. «Щось? Щось?» – переспрашивает дед. Все словно оглохли на голос глухого. Дед Юхим не обижается.
Мужик в старой солдатской шапке – кнышем (грубо подделанный каракуль этой линючей николаевской шапки уже вытерся, позеленел) – мне незнаком. Он из соседнего села, идет в город на «заработки». Он плотник и любовно поглаживает ладный свой остроотточенный топор, похожий на алебарду. Он нежит и холит этот топор. То поточит брусочком, то просто милуется матовым блеском лезвия. Объяснения отца, что «оппозиция» от слова «позиция» и, значит, одно и то же, мужик этот подверг сомнению. «Как же одно, если слова разные!» Отец долго «крутит волу хвост», пока из прочитанного ему самому не проясняется, что «оппозиция» – «это то, что против».
– Я же тебе толковал, – говорит отец, – не враги против, а свои!
– Не-э! Ты другое говорил!..
И так до тех пор, пока Василь, тронув вислые усы, не берет сторону отца – какая, мол, разница.