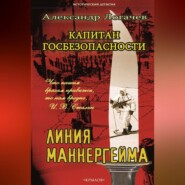По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капитан госбезопасности. В марте сорокового
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он, Фридрих Вильгельм, сложился в личность, с которой вынужден будет жить и мириться до конца своих дней, в семье и во время учебы в Кильском императорском кадетском училище. Отец, директор рурского металлургического завода, с рождения сына мечтал, чтобы тот сделал военную карьеру, направлял его на этот путь и своего добился. Детство Вильгельма прошло среди книг по истории, где история представала как цепь знаменитых сражений, среди жизнеописаний великих полководцев, в играх с солдатиками, подаренных раньше других игрушек, среди парадов, на которые отец его постоянно возил, прошло в отцовских разговорах о том, что именно военные – цвет немецкой нации, нации героев. Да, он впитал в себя военно-романтические идеалы (сейчас он понимал, что именно таким словом лучше всего можно определить фундамент своего характера). Благородство на поле брани осталось для него достоинством воина. Свою натуру, когда тебе пятьдесят три года, уже не переделаешь под жестокие требования сегодняшнего дня.
Но что нельзя изменить, можно скрывать. Скажем, свое отношение к национал-социалистским методам. Что, что, а скрывать он умел. Он знал, что его за глаза называют «старым хитрым лисом», а штаб-квартиру абвера на Тирпицуфер 74/76 – «лисьей норой». Пусть так, он не против. И величия Германии он лично будет добиваться честной войной. В войне должны торжествовать милость и благородство побеждающих к побеждаемым – он никогда не отступит от этого своего убеждения.
Что касается евреев, то… Перед собой нужно быть честным… Первый любовный опыт сказывается на всей последующей жизни. Он впервые влюбился восемнадцатилетним кадетом, в девятьсот пятом, когда вырвался из-под утомившей родительской опеки и оказался вдали от дома, поменяв Аплербек[17 - Местечко под Дортмундом.] на Киль.
На первом году учебы в императорском училище он влюбился. Она была удивительно хороша, эта дочь адвоката, Эльза. Он отдал ей весь пыл первой любви, превратился в ее пажа, в ее верного слугу, готового, стоит ей только пошевелить пальчиком, исполнить любую ее прихоть. А пажа за пажа и держат. Ничего удивительно – понимает он сейчас с высоты прожитых лет – что она полюбила не его, а невесть откуда появившегося сына оптового торговца шоколадками «Нестле». По фамилии то ли Розенблюм, то ли Розенкрейц. Тот, в отличие от Вильгельма, знающего толк разве в военной тактике и стратегии, знал, как нужно обходиться с барышнями того времени. Он читал ей наизусть модные стихи, сочинял стихи в ее честь, беседовал с ней о будущем психоанализа, о равноправии женщин – и быстро добился успеха.
Если сказать, что кадет Вильгельм Канарис переживал свою отставку – не сказать ничего. От самоубийства его тогда удержало лишь вовремя пришедшее из дома письмо. Напомнившее ему о близких и о том, что с ними станет, если он покончит с собой.
И того первого своего проигрыша, той ночи над заряженным револьвером он этим розенблюмам и розенбергам не простит никогда…
Да, он один из немногих, кто ненавидит евреев по-настоящему. Но он, в отличие от иных, не демонстрирует свою ненависть в показательных актах. Может быть, потому, что его не беспокоит, как незалеченная грыжа, нечистота своего происхождения. Ему незачем утаивать свою генеалогию, он может ей гордиться. Чего не скажешь о многих высокопоставленных лицах рейха. Ему ли, Канарису, этого не знать. А при необходимости сможет и доказать. О чем некоторые нацистские шишки подозревают, а Гейдрих так тот всё ищет, ищет. Ищет досье на себя, в котором хранятся доказательства его неарийского происхождения, его нечистоты по отцу. Ему надо очень постараться, чтобы найти, у него не получается и от бессилия и злобы он велел устроить тот дурацкий пожар в архиве.[18 - По поводу пожара в помещении Центрального архива абвера (подотдел «Ц») существует такое множество версий, что смешным и нелепым выглядит предположение о случайном возгорании из-за неисправной проводки или брошенного окурка.]
Пользуясь редкой паузой посреди рабочего дня, начальник абвера вышел на террасу. Сделать глоток-другой свежего воздуха, посмотреть на Ландверканал. До очередного визитера есть еще минут десять, до визитера, которому он тоже уделит не больше десяти минут. Большего он не стоит. Этот… как его… украинский экстремист… Бандера! Да, Степан Бандера. Любитель террора.
Фридрих Вильгельм Канарис
Канарис не был сторонником актов диверсий, террора, саботажа в мирное время. Чего уж там сторонником, противником такого пустого расходования человеческих ресурсов он был. Результаты, которых можно добиться этими действиями, не стоили затрат на них. Допустим, диверсионная группа абвера-2 из пяти человек, год обучавшаяся на учебной базе (на что уходят немалые деньги), забрасывается на территорию противника. Скажем, в Галицию. Заброска требует усилий и опять же средств (экипировка, фальшивые документы, зачастую еще и авиационное топливо, парашюты). Группа вживается в местные условия, растворяется в населении, начинает действовать – для Советского Союза преодоление этого этапа можно уже считать удачей. И вот эта группа, допустим, минирует мост, взрывает его. Что же дальше? Да, нанесен ущерб, грузы не доставлены, пассажиры тоскуют на вокзалах, но время мирное и мост быстро восстанавливают. Тем более дело происходит в Советском Союзе, где для выполнения задания нагонят солдат и заключенных – те могут отстроить новый мост за ночь. А на поиски диверсантов бросают всю контрразведку края. Перетряхивают все вверх дном и, скорее всего, кого-нибудь из наследившей группы (а она не сможет не наследить) прихватят. И тот может выдать не только всю группу, но и тех, кого успеют к тому времени завербовать из местных жителей, а также, возможно, место хранения оружия и взрывчатки. Спрашивается, это приемлемая цена за какой-то мост?
Другое дело, если группа поднимет на воздух тот же мост, когда им прикажут, то есть за несколько часов до начала военного вторжения. И польза налицо, и мост восстановить труднее, если вообще возможно. И выйти на след группы просто не успеют, и она продолжит действовать с той же активностью. И второй мост возможен, и третий.
И как таких простых вещей может не понимать этот Бандера и эти его неугомонные соратники! Куда они спешат? Разве можно спешить на поезд, когда тот еще не подан из депо. Спеши не спеши, а все едино – не уедешь.
Вот о чем размышлял начальник Управления/Аисланд/Абвер/ОКВ[19 - Полное официальное название абвера. ОКВ расшифровывается как Оберкомандвермахт – высшее командование вооруженными силами Германии, аналог нашего Генерального штаба.] в то время, как к нему вели Степана Бандеру.
* * *
Карцер следственного изолятора львовского НКВД был не самым комфортабельным уголком на этом свете. Особенно здорово об этом от кого-нибудь услышать, а не убеждаться самому. Шепелев убеждался сам, вышагивая от стены к стене. Ширина помещения – один полновесный шаг или пять «лилипутиков», длина – три обычных шага. Зато производит впечатление высота, где-то два с половиной человеческих роста. Украшением не только потолка, но и камеры в целом, служит тусклая лампа в патроне на свисающем проводе. Обычно со светом в карцерах происходит одно из двух: или полное отсутствие, или уж такую лампу ввинтят, что заснуть можно, лишь прикрывая глаза ладонями, а в бодрствующем состоянии от слепящего света постепенно начинаешь трогаться умом. Здесь же наличествует промежуточный, мягкий вариант. Ну это же молодой, неопытный изолятор в стадии становления.
Действительно, лампочка – единственная достопримечательность карцера. Более ничего. Ни нар, ни «откидух», ни тюфяков, ни соломы, ни параши. Оправляться выводят два раза в сутки. Так что надо набираться терпения. Не вытерпел – можно не сомневаться, надзиратели заставят тебя вылизать лужу языком или вытрут тобой, оставляя на полу вместо желтого красное пятно.
«Вот она – замена курорту, – с печалью констатировал капитан Шепелев. – Курорту, на который мне предлагал отправиться товарищ Берия». Но все-таки разные они, разные эти ощущения – когда ты по своей воле записываешься в зеки и когда не по своей.
Спасибо выбранному им роду занятий. Благодаря ему он вот уже третий месяц не может попасть домой, а лишь меняет военные пейзажи на камерную обстановку, а одну камерную обстановку на другую. От перемен последних дней в глазах рябит. Поезда и автомобили, за окнами которых мелькают улицы, площади, города, а ландшафты среднерусские перетекают в западно-украинские, и вот приехали – карцер. А давно ли он шел по вычищенным до неправдоподобия дорожкам Кремля, входил в здание, окруженное конусами елей одинаковой высоты, поднимался на второй этаж по мраморной лестнице, мигающей отраженными огнями ярких светильников, следовал по тихим безлюдным коридорам, топя подошвы в мягкой ковровой ленте, вступал в приемную размерами с Вселенную (стоявшие там три письменных стола, ни один из которых не поместился бы в карцер, казались журнальными), переступал порог кабинета вождя народов, главного человека страны. Еще вспоминается сейчас, когда он вышагивает в каменном мешке, огромнейший кабинет Берии на третьем этаже здания НКВД на Лубянке, куда его и Меркулова вызвал Берия перед отъездом во Львов. Давно ли это было…
Поменялся и круг общения. Вчера – первые лица страны. Сегодня он ждет… Кстати, легок на помине. Неужели и вправду сто лет проживет? Ай-яй…
Стих топот ног за дверью. Послышалась команда «Лицом к стене». Лязгнули засовы. Дверь отошла. В проем ступила фигура. Человек сделал шаг от порога и остановился. Дверь захлопнулась.
Они смотрели друг на друга. Заключенный Шепелев видел перед собой заключенного, чье имя оставалось неизвестным, потому что тот его не называл, равно отказываясь говорить что-либо вообще. А документов при нем обнаружено не было. На объяснение, откуда берется такое упорство, наводили глаза… Глаза фанатика, словно провалившиеся внутрь черепа, почти не двигающиеся в глазницах. Взгляд переводится с объекта на объект поворотом головы, а сфокусировавшись на чем-то, как сейчас на сокамернике, не моргая, сверлит в нем дыру. Эти всегда большие зрачки, эти в красных жилках, будто всегда воспалены, белки. Шепелев, доводилось, встречал подобные глаза.
(Капитану пришел на память эпизод из тридцать восьмого года. На тот момент в Ленинграде существование секты иосифлян поддерживал один-единственный уцелевший после тридцать седьмого года иосифлянин. Он жил при иосифлянской маленькой деревянной церкви, стоявшей на Лесном проспекте. Когда за ним пришли, он поджег церковь, собираясь сгореть вместе с нею в очищающем пламени. До сих пор капитан не уверен в разумности своих действий. Но тогда некогда было размышлять, он приказал сопровождавшим его оперативникам выбить дверь и бросился в огонь. Вытащить фанатика из жара, из-под трещавших, порохом разгорающихся перекрытий удалось только в бесчувственном состоянии, огрев по голове предметом из сектантской утвари, похожим на чашу. Церковные балки осыпались спустя секунду после того, как капитан со своей ношей перевалился через порог. Наверное, все-таки следовало дать иосифлянину умереть той смертью, какую он себе выбрал. А так продлены оказались его земные мучения, вдобавок и еще один человек пострадал. Следователь, что работал с иосифлянином и определил того в сумасшедший дом. Общение с сектантом не прошло даром и для сотрудника органов. Всякие проповеди, проклятия, пророчества, анафемы, сыпавшиеся на допросах, подействовали на следователя. Спустя какое-то время и он очутился в психиатрической больнице).
Сейчас немигающий взгляд исподлобья был нацелен точнехонько в товарища Шепелева. Человек не двигался, стоял по-прежнему возле двери. Его глаза дополняли бледное узкое лицо с высоким лбом. Небольшая залысина переходила в прямые, светлые, словно выгоревшие, недавно подстриженные волосы. Рост этого человека по ориентировкам определялся бы как «ниже среднего». Человек сутулился. Возраст около тридцати, хотя капитан почему-то был уверен, что он выглядит старше своих лет…
Наконец вновьприбывший сдвинулся со своего места. Он протиснулся мимо Шепелева к дальней стенке карцера, там остановился, повернувшись к сокамернику спиной. Приложил кисть с разбитым пальцем к каменной кладке. Да, стены их камеры могли охладить любой пыл. Камни, казалось, сами вырабатывают холод или высасывают его из земли – карцер устроен был в подвале, мог бы служить (а, может, и служил когда-то) погребом. Карцер, разумеется, не отапливали, иначе какой бы это был карцер. Температура в нем держалась, думается, круглый год одинаковая, колыхалась около плюс десяти. Это бы и ничего, если б не приходилось прислоняться к камням, пробирающим стынью сквозь одежку. А прислоняться приходилось – спать, кроме как на камнях, было не на чем.
Новичок карцера добавочно прислонился к стене и лбом. Так и стоял, погруженный в свои мысли. Капитан продолжил расхаживать на оставшемся клочке пола. Никто ни на кого вроде бы не обращал внимания…
Шепелев бросил взгляд на смотровой «глазок» двери и… ударом ноги в поясницу припечатал незнакомца к стене. Потом, ухватившись руками за потрепанный пиджак и ногой сделав подсечку, повалил сокамерника на пол. Добившись своего, капитан за волосы вздернул голову поверженного и приставил к его горлу остро заточенную о камень щепку. Ее острие разрезало кожу, и по шее потекла кровяная струйка, попала на дерево, сжимаемое пальцами Шепелева.
– Ну, баклан дешевый, колись, что надумали? – капитан склонился к сокамернику. – Как твоя позорная кликуха? Кто тебя послал, чего обещали? Кто хату держит? Как мочить хотел? Ну! Вываливай все!
Тот, кто не называл своего имени на допросах, молчал и сейчас, тяжело дыша, иногда зажмуриваясь от боли.
– Дуру ломаешь? Лады, отложим покуда. А ща мы позырим, с чем тебя подкинули. Не думали ж они, что ты голыми руками со мной справишься.
Капитан отпустил волосы – голова сокамерника непроизвольно опустилась на пол. Свободной рукой Шепелев ощупал сначала воротник пиджака, потом рубахи, принялся обследовать швы. Вскоре одной рукой уже было не обойтись, капитан спрятал щепку за отворот рукава своей рубашки и устроил новому приятелю полноценный, тщательный шмон.
Когда капитан рывком перевернул его на спину, сокамерник, отлежавшийся после прикладывания к стене и падения на пол, надумал было сопротивляться, но сумел только подвинуть по полу и напрячь здоровую руку и согнуть ногу в колене. Ждавший такого поворота капитан отвесил сокамернику смачную зуботычину.
– Смирно лежать, падла! – процедил он сквозь зубы, а прозвучало как окрик. Тут же капитан наступил сапогом на запястье той руки, на которой фиолетово-бардовой сарделькой выделялся раздробленный палец.
– Раздавлю клешню. Пальчик потревожу.
И Шепелев продолжил обыск. Распахнул на молчаливом заключенном пиджак.
– Гляжу, картинами ты не расписан. Ни одной синюхи. Первая ходка?
Его сокамерник злобно сверлил капитана взглядом и рот раскрывать не собирался, хотя и сопротивляться более не пытался. Капитан, стянув с ноги, ощупывал ботинок и думал о том, что из-за этого хмыря, чью обувь он якобы внимательно и недоверчиво осматривает, на его теле навечно останутся синюхи. Правда, от татуировок на руках Шепелев наотрез отказался, но на груди ему выкололи собор с тремя куполами, а в области сердца – профиль Сталина.
– Кажись, понимаю, – сказал капитан, бросив себе за спину второй ботинок приятеля по камере. – Ты, сявка, сел по первой, тебе обещали легкую прописку и сахарную жизнь в лагере, если замочишь одну суку. Чего про меня наговорили?
Капитан поднялся, отряхивая руки.
– Наврали, что все по закону, порешили на сходняке. Что ссучился, мол, деловой, корешей сдавал. Как же ты меня мочить собирался? Скатать рубаху жгутом и во сне удавить?
Капитан бросил себя вниз, выставив согнутый локоть, который вонзил в живот пытающего приподняться и встать сокамерника. Тот взвыл, согнулся, готов был заорать, но его рот накрыла рука капитана.
– Тихо, тихо, сявка. Думаешь, прибегут и вытащат? Это карцер, козел, сюда сажают, чтоб жизнь медом не казалась. Тебе не покажется, падлой буду.
И снова капитан вытащил щепку, но на этот раз приставил не к горлу, а к глазу. Заставил опуститься на глаз веко и надавил на него острием.
– Нравится так? Задавлю, баклан. Говори!
– Що ты хочеш вид мене?!
– Забалакал, гляди! Я тебе уже говорил. Вываливай все, что знаешь. Кто в хате заправляет, кто тебя послал?
– Яка хата?
Капитан видел, что испуга на лице и в голосе нет. Есть недоумение, горечь и злость. Интересно, он уже сейчас всерьез думает о том, как побыстрее расстаться с жизнью, в которой покоя до остатка дней (а остаток видится небольшим) не дождаться? Пытать будут и наверху, и в камере. Именно об этом он и должен задуматься. Придется усилить впечатление. Капитан переместил ногу и наступил на сломанный палец, снова накрыв ладонью рот сокамерника.
Отпустив ладонь, товарищ Шепелев поднялся и отошел от потерявшего сознание врага. Присел на корточки. Прислонился было спиной к стене, но холод быстро преодолел вязаную жилетку и рубашку, и пришлось отлипнуть от камней.
«Покурить бы. Да вот никак не может оказаться у меня папирос и спичек. Может, воспользоваться ситуацией и попробовать бросить? Роль позволяет. Почему вор не может думать о вреде курения? Но как же сосет от желания! Уж в глазах жжет. А на ум идут одни затяжки».
Как и всем курильщикам, лишенным табака, капитану стали являться картинки, где клубится сладкий дым и люди затягиваются полной грудью. Вспомнилась Сталинская трубка. Из темного дерева, чуть длиннее ладони, с большой круглой чашечкой, с изогнутым на конце мундштуком. Но Сталин закурил не сразу, когда позавчера товарищей Берия и Шепелева секретарь впустил в кабинет вождя.
Но что нельзя изменить, можно скрывать. Скажем, свое отношение к национал-социалистским методам. Что, что, а скрывать он умел. Он знал, что его за глаза называют «старым хитрым лисом», а штаб-квартиру абвера на Тирпицуфер 74/76 – «лисьей норой». Пусть так, он не против. И величия Германии он лично будет добиваться честной войной. В войне должны торжествовать милость и благородство побеждающих к побеждаемым – он никогда не отступит от этого своего убеждения.
Что касается евреев, то… Перед собой нужно быть честным… Первый любовный опыт сказывается на всей последующей жизни. Он впервые влюбился восемнадцатилетним кадетом, в девятьсот пятом, когда вырвался из-под утомившей родительской опеки и оказался вдали от дома, поменяв Аплербек[17 - Местечко под Дортмундом.] на Киль.
На первом году учебы в императорском училище он влюбился. Она была удивительно хороша, эта дочь адвоката, Эльза. Он отдал ей весь пыл первой любви, превратился в ее пажа, в ее верного слугу, готового, стоит ей только пошевелить пальчиком, исполнить любую ее прихоть. А пажа за пажа и держат. Ничего удивительно – понимает он сейчас с высоты прожитых лет – что она полюбила не его, а невесть откуда появившегося сына оптового торговца шоколадками «Нестле». По фамилии то ли Розенблюм, то ли Розенкрейц. Тот, в отличие от Вильгельма, знающего толк разве в военной тактике и стратегии, знал, как нужно обходиться с барышнями того времени. Он читал ей наизусть модные стихи, сочинял стихи в ее честь, беседовал с ней о будущем психоанализа, о равноправии женщин – и быстро добился успеха.
Если сказать, что кадет Вильгельм Канарис переживал свою отставку – не сказать ничего. От самоубийства его тогда удержало лишь вовремя пришедшее из дома письмо. Напомнившее ему о близких и о том, что с ними станет, если он покончит с собой.
И того первого своего проигрыша, той ночи над заряженным револьвером он этим розенблюмам и розенбергам не простит никогда…
Да, он один из немногих, кто ненавидит евреев по-настоящему. Но он, в отличие от иных, не демонстрирует свою ненависть в показательных актах. Может быть, потому, что его не беспокоит, как незалеченная грыжа, нечистота своего происхождения. Ему незачем утаивать свою генеалогию, он может ей гордиться. Чего не скажешь о многих высокопоставленных лицах рейха. Ему ли, Канарису, этого не знать. А при необходимости сможет и доказать. О чем некоторые нацистские шишки подозревают, а Гейдрих так тот всё ищет, ищет. Ищет досье на себя, в котором хранятся доказательства его неарийского происхождения, его нечистоты по отцу. Ему надо очень постараться, чтобы найти, у него не получается и от бессилия и злобы он велел устроить тот дурацкий пожар в архиве.[18 - По поводу пожара в помещении Центрального архива абвера (подотдел «Ц») существует такое множество версий, что смешным и нелепым выглядит предположение о случайном возгорании из-за неисправной проводки или брошенного окурка.]
Пользуясь редкой паузой посреди рабочего дня, начальник абвера вышел на террасу. Сделать глоток-другой свежего воздуха, посмотреть на Ландверканал. До очередного визитера есть еще минут десять, до визитера, которому он тоже уделит не больше десяти минут. Большего он не стоит. Этот… как его… украинский экстремист… Бандера! Да, Степан Бандера. Любитель террора.
Фридрих Вильгельм Канарис
Канарис не был сторонником актов диверсий, террора, саботажа в мирное время. Чего уж там сторонником, противником такого пустого расходования человеческих ресурсов он был. Результаты, которых можно добиться этими действиями, не стоили затрат на них. Допустим, диверсионная группа абвера-2 из пяти человек, год обучавшаяся на учебной базе (на что уходят немалые деньги), забрасывается на территорию противника. Скажем, в Галицию. Заброска требует усилий и опять же средств (экипировка, фальшивые документы, зачастую еще и авиационное топливо, парашюты). Группа вживается в местные условия, растворяется в населении, начинает действовать – для Советского Союза преодоление этого этапа можно уже считать удачей. И вот эта группа, допустим, минирует мост, взрывает его. Что же дальше? Да, нанесен ущерб, грузы не доставлены, пассажиры тоскуют на вокзалах, но время мирное и мост быстро восстанавливают. Тем более дело происходит в Советском Союзе, где для выполнения задания нагонят солдат и заключенных – те могут отстроить новый мост за ночь. А на поиски диверсантов бросают всю контрразведку края. Перетряхивают все вверх дном и, скорее всего, кого-нибудь из наследившей группы (а она не сможет не наследить) прихватят. И тот может выдать не только всю группу, но и тех, кого успеют к тому времени завербовать из местных жителей, а также, возможно, место хранения оружия и взрывчатки. Спрашивается, это приемлемая цена за какой-то мост?
Другое дело, если группа поднимет на воздух тот же мост, когда им прикажут, то есть за несколько часов до начала военного вторжения. И польза налицо, и мост восстановить труднее, если вообще возможно. И выйти на след группы просто не успеют, и она продолжит действовать с той же активностью. И второй мост возможен, и третий.
И как таких простых вещей может не понимать этот Бандера и эти его неугомонные соратники! Куда они спешат? Разве можно спешить на поезд, когда тот еще не подан из депо. Спеши не спеши, а все едино – не уедешь.
Вот о чем размышлял начальник Управления/Аисланд/Абвер/ОКВ[19 - Полное официальное название абвера. ОКВ расшифровывается как Оберкомандвермахт – высшее командование вооруженными силами Германии, аналог нашего Генерального штаба.] в то время, как к нему вели Степана Бандеру.
* * *
Карцер следственного изолятора львовского НКВД был не самым комфортабельным уголком на этом свете. Особенно здорово об этом от кого-нибудь услышать, а не убеждаться самому. Шепелев убеждался сам, вышагивая от стены к стене. Ширина помещения – один полновесный шаг или пять «лилипутиков», длина – три обычных шага. Зато производит впечатление высота, где-то два с половиной человеческих роста. Украшением не только потолка, но и камеры в целом, служит тусклая лампа в патроне на свисающем проводе. Обычно со светом в карцерах происходит одно из двух: или полное отсутствие, или уж такую лампу ввинтят, что заснуть можно, лишь прикрывая глаза ладонями, а в бодрствующем состоянии от слепящего света постепенно начинаешь трогаться умом. Здесь же наличествует промежуточный, мягкий вариант. Ну это же молодой, неопытный изолятор в стадии становления.
Действительно, лампочка – единственная достопримечательность карцера. Более ничего. Ни нар, ни «откидух», ни тюфяков, ни соломы, ни параши. Оправляться выводят два раза в сутки. Так что надо набираться терпения. Не вытерпел – можно не сомневаться, надзиратели заставят тебя вылизать лужу языком или вытрут тобой, оставляя на полу вместо желтого красное пятно.
«Вот она – замена курорту, – с печалью констатировал капитан Шепелев. – Курорту, на который мне предлагал отправиться товарищ Берия». Но все-таки разные они, разные эти ощущения – когда ты по своей воле записываешься в зеки и когда не по своей.
Спасибо выбранному им роду занятий. Благодаря ему он вот уже третий месяц не может попасть домой, а лишь меняет военные пейзажи на камерную обстановку, а одну камерную обстановку на другую. От перемен последних дней в глазах рябит. Поезда и автомобили, за окнами которых мелькают улицы, площади, города, а ландшафты среднерусские перетекают в западно-украинские, и вот приехали – карцер. А давно ли он шел по вычищенным до неправдоподобия дорожкам Кремля, входил в здание, окруженное конусами елей одинаковой высоты, поднимался на второй этаж по мраморной лестнице, мигающей отраженными огнями ярких светильников, следовал по тихим безлюдным коридорам, топя подошвы в мягкой ковровой ленте, вступал в приемную размерами с Вселенную (стоявшие там три письменных стола, ни один из которых не поместился бы в карцер, казались журнальными), переступал порог кабинета вождя народов, главного человека страны. Еще вспоминается сейчас, когда он вышагивает в каменном мешке, огромнейший кабинет Берии на третьем этаже здания НКВД на Лубянке, куда его и Меркулова вызвал Берия перед отъездом во Львов. Давно ли это было…
Поменялся и круг общения. Вчера – первые лица страны. Сегодня он ждет… Кстати, легок на помине. Неужели и вправду сто лет проживет? Ай-яй…
Стих топот ног за дверью. Послышалась команда «Лицом к стене». Лязгнули засовы. Дверь отошла. В проем ступила фигура. Человек сделал шаг от порога и остановился. Дверь захлопнулась.
Они смотрели друг на друга. Заключенный Шепелев видел перед собой заключенного, чье имя оставалось неизвестным, потому что тот его не называл, равно отказываясь говорить что-либо вообще. А документов при нем обнаружено не было. На объяснение, откуда берется такое упорство, наводили глаза… Глаза фанатика, словно провалившиеся внутрь черепа, почти не двигающиеся в глазницах. Взгляд переводится с объекта на объект поворотом головы, а сфокусировавшись на чем-то, как сейчас на сокамернике, не моргая, сверлит в нем дыру. Эти всегда большие зрачки, эти в красных жилках, будто всегда воспалены, белки. Шепелев, доводилось, встречал подобные глаза.
(Капитану пришел на память эпизод из тридцать восьмого года. На тот момент в Ленинграде существование секты иосифлян поддерживал один-единственный уцелевший после тридцать седьмого года иосифлянин. Он жил при иосифлянской маленькой деревянной церкви, стоявшей на Лесном проспекте. Когда за ним пришли, он поджег церковь, собираясь сгореть вместе с нею в очищающем пламени. До сих пор капитан не уверен в разумности своих действий. Но тогда некогда было размышлять, он приказал сопровождавшим его оперативникам выбить дверь и бросился в огонь. Вытащить фанатика из жара, из-под трещавших, порохом разгорающихся перекрытий удалось только в бесчувственном состоянии, огрев по голове предметом из сектантской утвари, похожим на чашу. Церковные балки осыпались спустя секунду после того, как капитан со своей ношей перевалился через порог. Наверное, все-таки следовало дать иосифлянину умереть той смертью, какую он себе выбрал. А так продлены оказались его земные мучения, вдобавок и еще один человек пострадал. Следователь, что работал с иосифлянином и определил того в сумасшедший дом. Общение с сектантом не прошло даром и для сотрудника органов. Всякие проповеди, проклятия, пророчества, анафемы, сыпавшиеся на допросах, подействовали на следователя. Спустя какое-то время и он очутился в психиатрической больнице).
Сейчас немигающий взгляд исподлобья был нацелен точнехонько в товарища Шепелева. Человек не двигался, стоял по-прежнему возле двери. Его глаза дополняли бледное узкое лицо с высоким лбом. Небольшая залысина переходила в прямые, светлые, словно выгоревшие, недавно подстриженные волосы. Рост этого человека по ориентировкам определялся бы как «ниже среднего». Человек сутулился. Возраст около тридцати, хотя капитан почему-то был уверен, что он выглядит старше своих лет…
Наконец вновьприбывший сдвинулся со своего места. Он протиснулся мимо Шепелева к дальней стенке карцера, там остановился, повернувшись к сокамернику спиной. Приложил кисть с разбитым пальцем к каменной кладке. Да, стены их камеры могли охладить любой пыл. Камни, казалось, сами вырабатывают холод или высасывают его из земли – карцер устроен был в подвале, мог бы служить (а, может, и служил когда-то) погребом. Карцер, разумеется, не отапливали, иначе какой бы это был карцер. Температура в нем держалась, думается, круглый год одинаковая, колыхалась около плюс десяти. Это бы и ничего, если б не приходилось прислоняться к камням, пробирающим стынью сквозь одежку. А прислоняться приходилось – спать, кроме как на камнях, было не на чем.
Новичок карцера добавочно прислонился к стене и лбом. Так и стоял, погруженный в свои мысли. Капитан продолжил расхаживать на оставшемся клочке пола. Никто ни на кого вроде бы не обращал внимания…
Шепелев бросил взгляд на смотровой «глазок» двери и… ударом ноги в поясницу припечатал незнакомца к стене. Потом, ухватившись руками за потрепанный пиджак и ногой сделав подсечку, повалил сокамерника на пол. Добившись своего, капитан за волосы вздернул голову поверженного и приставил к его горлу остро заточенную о камень щепку. Ее острие разрезало кожу, и по шее потекла кровяная струйка, попала на дерево, сжимаемое пальцами Шепелева.
– Ну, баклан дешевый, колись, что надумали? – капитан склонился к сокамернику. – Как твоя позорная кликуха? Кто тебя послал, чего обещали? Кто хату держит? Как мочить хотел? Ну! Вываливай все!
Тот, кто не называл своего имени на допросах, молчал и сейчас, тяжело дыша, иногда зажмуриваясь от боли.
– Дуру ломаешь? Лады, отложим покуда. А ща мы позырим, с чем тебя подкинули. Не думали ж они, что ты голыми руками со мной справишься.
Капитан отпустил волосы – голова сокамерника непроизвольно опустилась на пол. Свободной рукой Шепелев ощупал сначала воротник пиджака, потом рубахи, принялся обследовать швы. Вскоре одной рукой уже было не обойтись, капитан спрятал щепку за отворот рукава своей рубашки и устроил новому приятелю полноценный, тщательный шмон.
Когда капитан рывком перевернул его на спину, сокамерник, отлежавшийся после прикладывания к стене и падения на пол, надумал было сопротивляться, но сумел только подвинуть по полу и напрячь здоровую руку и согнуть ногу в колене. Ждавший такого поворота капитан отвесил сокамернику смачную зуботычину.
– Смирно лежать, падла! – процедил он сквозь зубы, а прозвучало как окрик. Тут же капитан наступил сапогом на запястье той руки, на которой фиолетово-бардовой сарделькой выделялся раздробленный палец.
– Раздавлю клешню. Пальчик потревожу.
И Шепелев продолжил обыск. Распахнул на молчаливом заключенном пиджак.
– Гляжу, картинами ты не расписан. Ни одной синюхи. Первая ходка?
Его сокамерник злобно сверлил капитана взглядом и рот раскрывать не собирался, хотя и сопротивляться более не пытался. Капитан, стянув с ноги, ощупывал ботинок и думал о том, что из-за этого хмыря, чью обувь он якобы внимательно и недоверчиво осматривает, на его теле навечно останутся синюхи. Правда, от татуировок на руках Шепелев наотрез отказался, но на груди ему выкололи собор с тремя куполами, а в области сердца – профиль Сталина.
– Кажись, понимаю, – сказал капитан, бросив себе за спину второй ботинок приятеля по камере. – Ты, сявка, сел по первой, тебе обещали легкую прописку и сахарную жизнь в лагере, если замочишь одну суку. Чего про меня наговорили?
Капитан поднялся, отряхивая руки.
– Наврали, что все по закону, порешили на сходняке. Что ссучился, мол, деловой, корешей сдавал. Как же ты меня мочить собирался? Скатать рубаху жгутом и во сне удавить?
Капитан бросил себя вниз, выставив согнутый локоть, который вонзил в живот пытающего приподняться и встать сокамерника. Тот взвыл, согнулся, готов был заорать, но его рот накрыла рука капитана.
– Тихо, тихо, сявка. Думаешь, прибегут и вытащат? Это карцер, козел, сюда сажают, чтоб жизнь медом не казалась. Тебе не покажется, падлой буду.
И снова капитан вытащил щепку, но на этот раз приставил не к горлу, а к глазу. Заставил опуститься на глаз веко и надавил на него острием.
– Нравится так? Задавлю, баклан. Говори!
– Що ты хочеш вид мене?!
– Забалакал, гляди! Я тебе уже говорил. Вываливай все, что знаешь. Кто в хате заправляет, кто тебя послал?
– Яка хата?
Капитан видел, что испуга на лице и в голосе нет. Есть недоумение, горечь и злость. Интересно, он уже сейчас всерьез думает о том, как побыстрее расстаться с жизнью, в которой покоя до остатка дней (а остаток видится небольшим) не дождаться? Пытать будут и наверху, и в камере. Именно об этом он и должен задуматься. Придется усилить впечатление. Капитан переместил ногу и наступил на сломанный палец, снова накрыв ладонью рот сокамерника.
Отпустив ладонь, товарищ Шепелев поднялся и отошел от потерявшего сознание врага. Присел на корточки. Прислонился было спиной к стене, но холод быстро преодолел вязаную жилетку и рубашку, и пришлось отлипнуть от камней.
«Покурить бы. Да вот никак не может оказаться у меня папирос и спичек. Может, воспользоваться ситуацией и попробовать бросить? Роль позволяет. Почему вор не может думать о вреде курения? Но как же сосет от желания! Уж в глазах жжет. А на ум идут одни затяжки».
Как и всем курильщикам, лишенным табака, капитану стали являться картинки, где клубится сладкий дым и люди затягиваются полной грудью. Вспомнилась Сталинская трубка. Из темного дерева, чуть длиннее ладони, с большой круглой чашечкой, с изогнутым на конце мундштуком. Но Сталин закурил не сразу, когда позавчера товарищей Берия и Шепелева секретарь впустил в кабинет вождя.