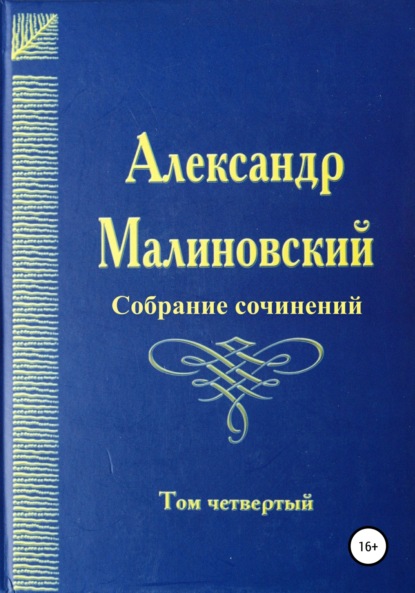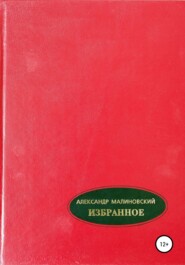По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 4
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я подошёл к изгороди. Мои ночные страхи были напрасны. Клен стоял уверенно и прямо. Широко раскинув плети, цвела тыква, над её бледно-желтыми цветами, над распаренной солнцем землей жужжали пчелы. В поднимающейся после ливня и ветра траве невидимая глазу птаха начинала свою утреннюю песню. Во всем была своя, уверенная жизнь.
Дикая яблоня
Вечерело. Когда я подошёл к околице села, увидел у плетня сбившихся в кучу ребятишек. Похоже, ждут возвращения стада. Среди них седенький старичок, не по годам подвижный, ведет, как бы между делом, рассказ:
– …Была-то она худенькой хворостинкой, когда принес её из дальнего леса твой, Николашка, дед и посадил первую на все село под своими окнами. А года через два на ней уже были яблоки. Деревцо крепко прилепилось. И сколько радости было весной, когда цвело оно. И возмечтали мужики сады развести, поверили, значит, что и у нас могут яблони расти. Да такое вот дело случилось: в слепой ярости, то ли спьяну, то ли сводя какие счеты, вырезал Гришка Косой на стволе её широкую ленту коры. Не надеясь, что яблонька выживет, съездил дед Степан в район и привез ещё три саженца антоновки, потом ещё. Так и появился первый яблоневый сад. Но выжила яблонька, затянулась рана. Только теперь она стояла перехваченная в талии широким тугим поясом – дед Степан то место варом обмазал. И ни одна яблоня потом не смогла перерасти её.
– А что же Косому? – вставил Николашка вопрос.
– Косому-то? Недолговечным оказался Косой, помер и свои тридцать неполных. С опою. Когда потом кто вспоминал о нем, то говорил: «Это тот, который яблоньку чуть не сгубил?» А больше о нем и помнить было нечего. Знаменитой стала дикая яблоня. Много слышала она разговоров парней и девчат деревенских, тех, что с глазу на глаз говорятся. Да и твоя вот, Васятка, бабка Ульяна дала согласие выйти замуж за Корнея, деда твоего, тоже у яблони. Так что и свахой, вишь, она была, и советчицей. А когда на войну Отечественную уходили наши, совала всем Ильинична на счастье по кульку диких сушёных яблок. А однажды весной старая яблоня уже и листом не покрылась, не зацвела. Несколько лет никто не трогал её, ни у кого рука не поднималась спилить. А сады в ту весну цвели особенно дружно, будто за старую яблоню старались…
Помолчал дед. И сказал, как черту подвёл:
– Вот две жизни, хоть и неравные: человека, который хотел погубить дерево, и дерева самого. И какие разные жизни. Ну, я пошёл, а вы смекайте…
Он оттолкнул своё легонькое тело от плетня и пошёл навстречу мычавшему на подходе к околице стаду.
Березовая удочка
Вчера, перебирая заброшенные рыбацкие снасти, наткнулся на крючок, сделанный из простого гвоздя. И вспомнилась одна из самых ярких картин детства.
Все началось с первой моей собственной берёзовой удочки. Её сделал мой дед. Делалась она так: облюбованную березовую заготовку, только что срезанную, он крепил на длинной доске гвоздями, исправляя все кривулины, и клал на несколько дней на просушку. После снимал её, прямую, и специально для крючков привязывал к удочке замоченную в кадке кугу, крепко стянув её в трех местах лыком. Поплавки он выстругивал из ветловой коры.
Первое, что я сделал – побежал показывать удочку Кольке. Рядом с моей удочкой Колькина выглядела обыкновенной хворостиной. Наскоро накопав под поющим на все лады мостом червей, мы отправились на Самарку.
Не помню, первой ли была эта поклевка или нет, но помню, как мой поплавок, прибившийся в омутке к коряжке, не спеша погрузился под воду – так бывало, когда был зацеп. На всякий случай легонько дернув, я вдруг ощутил непривычную, но податливую тяжесть, руки инстинктивно рванули удочку. Она согнулась до воды и словно выстрелила. Поплавок метнулся в воздухе и отвязался. Когда я, не чувствуя боли в ушибленном колене, бросился к добыче, на крючке сидел огромный, клешни больше ладони, флегматичный рак. Было и досадно, и удивительно. Досадно от того, что в те мгновения бессознания, когда я рвал удочку из воды, ожидалось, что на крючке будет кто-то большой и таинственный, а удивительно от того, что на червяка попался простой, хотя и большой, рак, каких мы с Колькой ловили просто на бечевку, привязав на конец мясо ракушки.
Решив выкупаться, поставили удочки на живца и уплыли на противоположную сторону речки на прогретую песчаную косу.
– Смотри, смотри, – Колька показал пальцем в сторону наших удочек.
Я оглянулся. Здоровенный парень из соседнего села, Стёпка, взял Колькину удочку, отвязал поплавок, кинул его под ноги в воду. Удочку воткнул у своих ног рядом со своими донками. Мы рванули обратно.
– Что вы понимаете в рыбалке, пескари несчастные, кыш отседова и не шуметь.
Вылезая из воды, Колька попробовал канючить:
– Степка, а Степка, отдай, мне за неё тятька задаст, без спроса взял.
– Надоедать будешь, я задам. Буду уходить домой, отдам.
Дальше просить расхотелось, хотелось подойти потихоньку сзади и дать по Степкиной красной шее, но было страшновато, Степку даже некоторые наши мужики побаивались.
– Жди, отдаст, как же! Скорее переломает. Пойдем домой, Шурка, пока светло.
– Коль, давай пока порыбачим, может, взаправду отдаст. – Мне ещё хочется верить в Степкину порядочность.
Теперь уже одной удочкой мы ловим пескарей и окунишек. Насаживаем их на длинный кукан и ждем Степкиной доброты.
Вдруг около упавшей поперек реки в половодье осины кто-то словно невидимым веслом раздвинул толщу воды и хлопнул по ней. Минут через десять после нового всплеска мелкие рыбешки выбросились из воды.
– Сом, – определил Колька, – на, – он протянул мне удочку, – я знаю, что надо делать. У тебя крючки есть?
– Есть.
Я достаю из фуражки крючок.
Колька снимает с кукана окунишек и выпускает их, они нам теперь ни к чему. Привязываем крючок к капроновой бечеве, бечеву – к коряжке, торчавшей в воде у ног, и через минуту наш один-единствснный пескарик с крючком в спинном плавнике, обрадовавшись обманчивой свободе, исчезает в воде.
Решено, пока не поймаем следующего пескаря, не проверять нашу снасть.
Забыто все: и Степка, который сидит метрах в тридцати от нас за мыском, и то, что уже темнеет. Но, наконец, пойманы один за другим два пескаря. Дрожащей рукой нащупываю поводок, но рука чувствует досадную легкость.
Что это? Пескаря нет, а крючок разогнут так, что стал похож на маленький гарпунчик. Отвязав крючок от удочки, ладим заново свою снасть и насаживаем другого пескаря. Колька бросает снасть в воду. Теперь мы уже не можем отойти от этого места. Оно не отпускает, завораживает, заставляет забыть обо всем, даже о моей берёзовой удочке. Когда Колька, не вытерпев, вскакивает и берется за бечеву – становится жутковато. Рывком дёргает – бечева легко подаётся, и вот в Колькиных руках сломанный пополам крючок. Долго сидим неподвижно. Обидно. Словно желая ещё больше досадить нам, под самым Колькиным носом (Колька забрался на лодку напиться) сом поднимает бурун. Совсем уж нахал распоясался.
И тут-то происходит чудо. Колька вскрикивает и хватается за голень. В штанине у него торчит забытый кем-то в лодке самодельный, величиной с палец, крючок из гвоздя. Торопясь, мы восстанавливаем свою снасть. Уже поздно. Решено завтра, как погонят коров, прийти проверить. Степки уже нет на своём месте, нет и моей удочки. Мы бежим по песчаной дороге домой. Страшновато. Но признаваться в этом не хочется. Для бодрости поем все песни, какие только знаем…
Колькину мать мы уговариваем разрешить ночевать нам вместе в нашей сельнице.
…Утром по холодному песку спускаемся к заветному омуту. Солнце ещё не поднялось. Над водой тянется слоистый белесый туман. Около нашей коряжины на мыске метрах в десяти сидит Степка. В руках у него моя удочка.
Нащупав в воде поводок, Колька разочарованно смотрит на меня – леска идёт свободно. Но вдруг он с силой рвет её на себя и падает животом на что-то огромное и страшное. Продолжая борьбу уже в воде, мы выволакиваем скользкое чудовище на берег. Ошарашенный Степка бросает свои удочки и идёт к нам.
– А ну, рыбаки, дай гляну.
– Драпаем!..
Колька хватает добычу за жабры, я пытаюсь взяться за скользкий пегий хвост… Вот мы уже на высоком берегу. Когда густые ветви сомкнулись за нашими спинами, мы остановились перевести дух и осмотреть добычу. Чумазый, весь в пиявках, сом был Кольке от пят до подбородка. Наши руки, рубахи и штаны покрылись липкой слизью и прилипшим песком. Счастливые, мы трогаемся в путь. День только начинается, до вечера далеко – можно ещё вернуться на рыбалку…
Лист семижильника
Растение это по-книжному называется по-другому. Только моя мама зовет его семижильником. Растет оно обычно в тени, на влажных местах, чаще на лесных дорогах, проходящих по оврагам и близ озер. В степи семижильник встречается реже. Его везде безжалостно мнут копыта лошадей, колеса телег. По нему, обжигающему босые ноги прохладой, бегают ребятишки, забравшиеся вглубь леса.
До поры до времени его не замечают, но когда вдруг нога наткнется на битое стекло или гвоздь и рана потом начнет гноиться – обязательно найдется человек, который вспомнит об удивительных свойствах семижильника. И он, этот прохладный зеленый лист, своими семью жилочками, как щупальцами, накроет рану. Пройдет время, и рана очистится, опухоль спадет, а листок, ещё недавно зеленый, засохнет, пожелтеет и пропадет совсем. И опять все забудут про это неприметное растение. Но забудут только до поры.
Завидная судьба у семижильника.
Истоки
Стоял конец августа.
Устав от назойливых поклевок мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу, напротив Кунаева ключа.
На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.
В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно. Словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.
До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!