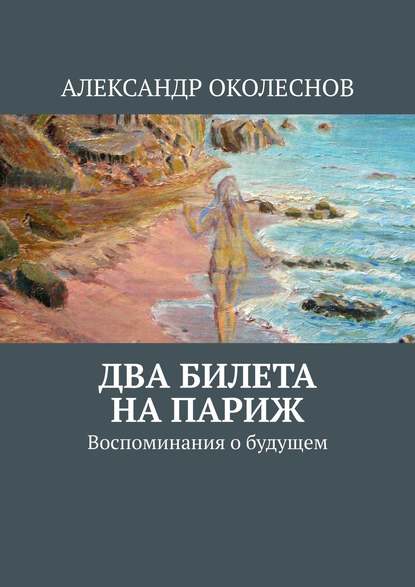По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два билета на Париж. Воспоминания о будущем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но более всего нас манили запахи бисквитной фабрики. Запахи тортов, печенья, сгущенного молока, крема, шоколада и кофе. Этот букет запахов не давал нам ночью спать спокойно. Особенно когда легкий ветерок гнал эти запахи в сторону двора. Тогда фабрика казалась нам огромным тортом величиной с футбольное поле.
Был на этой фабрике нами любимый таинственный уголок. Лежали здесь горы десятилитровых оцинкованных банок из-под сгущенного молока и меланжа, отработанные транспортерные ленты, металлические сетки, старые электрокары и много другого добра в этом роде. Среди этой груды утиля стояло небольшое здание, в торце которого была большая двухстворчатая деревянная дверь. Дверь эта никогда не запиралась. Она вела в помещение, напоминающее бакалейную лавку с лабазами. Вдоль стен стояли деревянные ящики, которые до самого верха были заполнены обломками печений. Комната эта была как бы нашей бесплатной кондитерской.
По бетонному полу комнаты бегали здоровенные крысы, которые не боялись нас, когда мы в нее входили, а завидя нас, лениво расползались по щелям. Мы, прогнав их палками, подымали крышки ящиков и наедались обломками печений до тошноты. Наевшись, брали банку из-под сгущенного молока величиной с ведро, наполняли ее до краев и несли угощение во двор своим младшим товарищам. Но сначала нужно было по груде металлолома взобраться на крышу гаража, по ней пройти до забора, который отделял гараж от фабрики, потом босиком по каменному забору, утыканному стеклами, преодолеть путь до крыши нашего дома и, сбросив банки вниз, спуститься по сараюшкам во двор. Я с гордостью признаюсь, что за все время наших вылазок никто ни с крыши, ни с забора ни разу не свалился.
Из взрослых, кто работал поблизости от «нашей кондитерской», никто нас не гонял, наоборот, поймав кого-то за руку, совали за пазуху еще не остывшую пачку печенья. Пачка приятно грела живот, отчего есть ее почему-то не хотелось.
Было это в начале шестидесятых, когда в стране было много космических летательных аппаратов и мало хлеба в магазинах.
Среди заводов и фабрик наш двор не был одинок. Через шоссе, слева от Кишлинского завода, – двор моей юности Старый парк. Рядом с шинным заводом – поселок Двести пятый. Напротив фаянсового – Сорок резервуаров, за овощной базой – Кирпичный двор и Больничный двор. Нет предела человеческой фантазии. У нашего двора было особое название: Деловой двор. А интеллигентный Старый парк дразнил нас «деловушниками». Было у него и другое название – «сучий двор», которое дали ему те, кто приходил сюда к «женщинам лёгкого поведения», коих в нашем дворе было немало. Это обидное клеймо тяжелым бременем поселилось в моей душе. Когда меня спрашивали, где я живу, я уклонялся от прямого ответа и говорил, что живу либо в Старом парке, либо в поселке Двести пятом.
Между дворами особой вражды не было. Жили относительно дружно. Вместе играли целыми днями в футбол, строили плоты на озере из старых железнодорожных шпал, таскали бракованные тарелки с фаянсового завода, когда они были в стране в дефиците, и совершали «экскурсии» по близлежащим производственным объектам.
В нашем дворе проживали в основном русские. Из Краснодара, Саратова, Читы, Уфы. Кто-то бежал от немца, кто-то от голодухи. В войну в Закавказье можно было выжить. Жили дружно, почти без драк и скандалов. Всем двором справляли христианские праздники: Пасху, Родительское. По праздникам собирались в доме то у одного, то у другого. Пели российские застольные песни.
В двух бараках было семьдесят две квартиры. Наша была шестьдесят седьмая. По вечерам, когда раскаленное солнце пряталось за крыши овощной базы, а горячий, словно сковорода на плите, асфальт начинал остывать, во двор со своими стульчиками, скамейками, табуретками выползало взрослое население и рассаживалось кучками, чтобы поиграть в лото, домино, покер и другие азартные игры. «Элита» собиралась под виноградной лозой Изотовых. Мальчишки носились на деревянных самокатах, которые страшно гремели, и старики гоняли детвору из одного конца двора в другой.
Трудно сейчас понять, как такое количество народа умещалось во дворе, площадь которого была чуть больше площади волейбольной площадки. Старики со стульями, дети с самокатами, взрослые с мотоциклами. Умудрялись еще натягивать волейбольную сетку между домами от одного зарешеченного окна до другого. А если мяч попадал в кучку стариков, то обратно, как правило, долго не возвращался.
Были и танцы под радиолу, и песни блатные под гитару. А мы, малышня, сидели притихшие в сторонке и с завистью поглядывали на парней и девчонок, что были старше нас по возрасту. Они были взрослыми.
Женька Евтеев, кучерявый красавец, тот, который на гитаре играл, уже водил машину. Генка Чичков и Вовка Тришкин работали на Кишлинском. Витьке Шибаеву в армию скоро. Витька Волков, круглый, как булка, сосед, устроился столяром на стройбазу. Юрка Изотов, широкоплечий, похожий на цыгана задира-парень, и зимой и летом ходивший с обнаженным торсом, как будто нарочно выставляя свои мускулы напоказ, уже отслужил. Были еще два брата-погодки: Лева и Вова Федоровичи. Скромные евреи. Оба страстные охотники и рыболовы.
Среди девчонок поколения сороковых я помню только Шуру Тришкину. Сестру Володи Тришкина. Стройная и красивая девушка. В детстве я был влюблен в ее младшую сестру Любу. Голубоглазую и курносую, с веснушчатым лицом и двумя косичками-хвостиками. Мы учились с ней в одной школе и сидели за одной партой до третьего класса. В четвертом я стал стесняться своих чувств и пересел на последнюю.
То поколение сороковых жило своей жизнью и нас в свой мир не пускало. Но какие-то светлые чувства от мимолетного общения с ними покоятся во мне до сих пор. Мы, следующее поколение, во многом старались быть похожими на них. Их игры доставались нам по наследству. Их умение держаться с достоинством, не хныкать приводило нас в восторг.
В нашем заводском захолустье не было писателей, художников или летчиков. Это были дворы обыкновенных работяг, вдов и одиноких женщин. Много всякого сброда ходило к нам. Много камней летело в их сторону.
Жили в нашем дворе, как и во всех, наверное, люди добрые и злые, тихие и шутники, открытые и хитрые. Одни носили имена, другие просто «кликухи». К примеру: Колька Тряпичные Ноги. Невысокого роста мужичок с кривыми ногами, как у кавалериста. Редко ходил трезвым, но часто с гармошкой, распевая похабные частушки. Правда, жена его не давала муженьку разгуляться в полную силу. Колька не упирался, когда жена тащила его за шиворот домой, держа в одной руке мужа, в другой его гармонь. Казалось, другой ласки от жены он и не видал никогда. А дома он садился на табурет возле открытого во двор окна и продолжал горланить дальше.
Галя Шалман, соседка его по подъезду, мужеподобная женщина, если ходила за водой, ведра в ее руках казались игрушечными. В эту же компанию входила Ленка Походудела. Была еще Ленка Расписная. Это прозвище она получила за «шедевры», которыми было разукрашено ее тело. Лидка Зубатая – ее подруга, любовная женщина с огромным бюстом и тонкими ногами. У нее было столько мужей, что по именам она всех уж и не помнила. Хоть они и позорили «наш советский образ жизни», однако зла во дворе никому не чинили.
По части зла у нас была Лошадиная Голова, тощая, словно Яга, армянка с длинным носом и выпученными глазами. Вытянутое лицо ее действительно напоминало лошадиную голову. Все знали, что она была внештатным сотрудником ОБХСС. Возле ее дверей и окон народ не собирался. Старики никогда не садились в тень, которая падала от ее стены.
Был и свой весельчак дядя Павел. Вернулся он с фронта без ноги. Ходил вприпрыжку, опираясь на один костыль. Любил поболтать, побалагурить. Пьяным бывал редко, только по праздникам. Пел частушки, приплясывая на одной ноге и размахивая костылем. Мальчишки любили его за рассказы о войне. О себе он рассказывал редко. Никто никогда не видел его наград. Он их не носил ни в будни, ни в праздники. Лишь однажды сын его Борька принес большую коробку из-под конфет, раскрыл и показал нам потускневшие награды своего отца. Их было много, и все разные. Мы даже не успели в руках подержать. Борис захлопнул коробку и помчался домой, чтобы побыстрей спрятать ее. В то время многие фронтовики не носили наград. Самой большой наградой для них было то, что они вернулись живыми. «Настоящие герои остались там, на поле боя, – говорил дядя Павел. – А мы – самые великие должники на земле».
Судьба его сложилась трагично. Получил он машину от райсобеса. Инвалидную коляску с мотором. Взрослые ребята помогли построить для нее во дворе небольшой сарай. Через год, когда он выезжал со двора на шоссе, на него налетел грузовик. Хоронили дядю Павла всем двором от мала до велика. Четыре года войны. Прошел он от Сталинграда до Праги, а погиб дома.
Этот путь от ворот двора через шоссе для многих наших жильцов был последним. Четверо детей и трое взрослых погибло под колесами автомашин, трамвая, грузового поезда, пути которых пересекались недалеко от наших ворот.
Лидером среди нас был средний сын дяди Павла Вовка, по прозвищу Манюня. Во всех наших военных играх он был командиром. Ни умом, ни силой он от нас не отличался, но все тянулись к нему. Учился в школе он плохо и первым из нас пошел работать. Влияние его на ребят особенно укрепилось, когда он в поле за бисквитной фабрикой нашел револьвер. Наган был ржавым и барабан не вращался, но находка произвела на нас, пацанов, ошеломляющий эффект. Иногда Манюня давал нам его подержать, но за это просил несколько печений или конфет, у кого они имелись. На худой конец хлеба или вареной картошки. Мы с радостью отдавали ему все, что у нас было, и с трепетом принимали из его рук оружие. Когда я впервые взял в руки наган, я удивился, каким он был тяжелым.
Однажды Манюня принес наган в школу. Учитель его увидел и отнял наган. В кабинете директора школы уже имелась коллекция из предметов, которые Манюня приносил в класс, но оружие – это было уж слишком. Собрали экстренное заседание педсовета. Затем классное собрание. По школе поползли слухи, что Володька Изотов хотел застрелить учителя по физике Евгения Федоровича.
Гарник Самсонович, директор школы, высокого роста отставной майор, требовал исключения Изотова из школы. Но окончилось все еще одним «последним» предупреждением.
О потере оружия мы долго горевали. Даже строили планы, как забраться в кабинет директора и выкрасть из шкафа наган. Осуществить планы так и не удалось. Директора школы все боялись.
АРГУН
Где-то я читал, что память о детстве состоит из определенных запахов. Я помню запахи спелой айвы, преющей сливы на земле. Запахи мяты и крапивы по берегам арыков, которые протекали сквозь старые заросшие сады.
Это было в селе Предгорном в двадцати километрах от Грозного. Деревня стояла в пойме реки Аргун и напоминала райский уголок. Была она когда-то чечено-ингушской, но в войну аборигенов выслали, и теперь в их домах поселились русские семьи. Жили они с опаской и по ночам запирались на несколько засовов. В Предгорном Аргун разливался на многочисленные рукава. Село было сплошь изрезано арыками, ручьями и небольшими речушками. Они текли, огибая дома и пробиваясь или подныривая под хозяйские заборы и плетни. Текли сквозь старые фруктовые сады, наполняя их влагой и прохладой.
Мы строили на речушках деревянные игрушечные мельницы и с упоением наблюдали, как они вертятся. В жару, плавая в ручье, подныривали под забор, переплывая из одного сада в другой. Посинев от холода, выползали на травку, где сквозь кроны фруктовых деревьев пробивались столбы горячего солнечного света. Ползая по траве, подбирали переспевшие сливы, яблоки, терн и ели до боли в животе. Потом садились на край зеленого ковра и, свесив ноги в прохладную воду, смотрели, как спелые яблоки, словно корабли, проплывали мимо, прятались под склонившимися над речушкой кустами.
Аргун – своенравная река. Словно масло в жару, таял на ее излучинах высокий берег. Пологий берег был усыпан галькой и валунами, принесенными весенними селями. Пройдя вверх по течению, мы бросались в воды Аргуна, и тот бережно, словно пушинки, нес нас мимо деревни. Сейчас я с содроганием вспоминаю это, ведь плавать я тогда совсем не умел. Было это так давно, что оторопь берет. Но эта светлая картинка навсегда сохранилась в моем сознании.
Мы с бабой Дарьей жили в сельском клубе в помещении кассы, откуда раньше продавали билеты в кино или на концерт. Это была длинная узкая комната с высоким потолком. Стояли одна кровать, шкаф для белья и тумбочка. Единственное окно, которое было чуть меньше ширины комнаты, выходило в сад. Пузо печки-голландки выпячивалось из стены и занимало значительную часть помещения. Вход был со стороны фойе, где перед праздниками на больших красных полотнищах художники писали лозунги. Иногда оттуда просачивались запахи свежей гуаши и масляных красок.
Дарья работала уборщицей в клубе. Была она и строгой, и грубой. Но меня любила. Я ее тоже, как мог. Вместе с ней по берегу Аргуна мы собирали перья и пух домашних птиц. Дарья мыла пух, высушивала его на солнце и делала подушки, которые по воскресеньям возила продавать на рынок в Грозный. Иногда среди камней мы находили утиные или гусиные яйца. Это добавляло радости в наш пуховой промысел.
В конце лета приехала мама. Начались хождения по гостям. Одно из таких хождений мне хорошо запомнилось.
Во дворе дома, куда мы пришли, паслась стреноженная лошадь. Подойдя к ней сзади, я хлестнул ее прутиком по ногам, сказав: «Но-о!». Лошадь дернулась и лягнула копытами, которые просвистели слева и справа от моих ушей. Мать, увидев эту сцену, чуть не упала в обморок. Меня не била. Подбежав, схватила на руки и тихо заплакала.
Гостила она недолго и вскоре уехала.
Зима в Предгорном была теплая, мягкая. Почти до января не замерзали протоки.
Бегали с мальчишками за розвальнями. Примостившись сзади на концах полозьев, катались из одного конца деревни в другой. Тридцать первого декабря в клубе было организовано большое новогоднее представление. Огромная разукрашенная елка стояла посреди зала. На сцене выступала местная художественная самодеятельность. Показывали спектакль. А затем пел хор. Пели русские народные песни. Показывали народные танцы. Один танцор так растанцевался, кружась на одной ноге, что от него пыль столбом поднялась. После концерта кресла сдвинули, и начался новогодний бал для взрослых.
Засыпал я в нашей коморке под грохот духового оркестра. Было тепло и сладко. Под моей подушкой лежала картонная позолоченная звезда, подаренная мне Дедом Морозом.
Друзей той поры я помню только силуэты. Было их много. Носились мы по клубу, как оглашенные. Когда же я оставался один, смотрел, как художник старательно выписывал огромные буквы на красном полотнище.
Играя однажды в прятки, я спрятался за пожарным щитом. Щит был только прислонен к стене. Огнетушители, только что покрашенные, висели на нем. Выползая из своего укрытия, я его уронил. Огнетушители сработали и начали поливать фойе клуба отвратительной рыжей пеной. Попало же мне за это от Дарьи.
Эта зима была недолгой. В мае мы уже бегали по садам босиком. Но в это лето погулять вволю мне не удалось. Проткнул себе ногу насквозь ржавой проволокой. Целый месяц бабушка носила меня на себе в больницу на уколы.
Приехала мама с сестрой Эммой. Сестре только исполнилось два года. Была она маленькая, смуглая, с черными кучеряшками. Я ее сразу полюбил.
Мама прожила в Предгорном почти все лето. Работала на строительстве новой дороги, которую прокладывали в горы. Когда зажила нога, я стал носить ей в обед молоко и свежий хлеб из пекарни. В селе была своя пекарня, и мне нравилось ходить туда потому, что на все село от нее шел запах свежей выпечки, дрожжей и цветущих подсолнухов. Попросту говоря, потому, что она вкусно пахла, особенно зимой, когда эти запахи смешивались с запахом свежих колотых дров и угля.
Это лето в Предгорном пролетело быстро. Мама уговорила Дарью вернуться в Баку. Через год я должен был идти в школу.
Детство мое не было беззаботным и радостным. Четыре года я тяжело болел, и Предгорное для меня было тем уголком, в который, как мне казалось, я попал по счастливому билету.
Последний запах, который остался как воспоминание о Предгорном, это запах мазута и пыльной дороги. Грунтовые дороги там посыпали щебенкой и поливали мазутом. В смеси с пылью и дробленым камнем получалось своеобразное покрытие. По такой дороге мы ехали в Грозный на железнодорожный вокзал. Шины «газика» долго шлепали по липкому покрытию, словно мы переезжали вброд речку и никак не могли переехать.
ПОСЕЛОК МОНТИНА
Посреди нашей комнаты мама поставила белый табурет. Водрузив меня на него, стала наряжать в школу. Школьная форма, которую она привезла из Москвы, шуршала и дыбилась, словно картон. Вдобавок ко всему она еще и кололась, и все тело мое не хотело принимать эту амуницию. Нахлобучив мне на голову форменную фуражку и всучив в руки новенький портфель, в котором лежал один-единственный букварь, мама стала меня разглядывать. Похоже, она была недовольна моим внешним видом. Форма была куплена на вырост и сидела на мне, как на колу.
Выйдя в общий коридор, постучались в квартиру Тришкиных. Мое детское сердечко екнуло, когда я услышал легкие шаги. В дверях стояла девочка-ромашка. Белый фартучек и два огромных банта в косичках светились в темном дверном проеме. Родители вручили нам первоклассницу, и мы помчались на автобусную остановку.
Заводской автобус, который стоял на площадке у административного здания КМЗ, забирал детвору нашего двора, чтобы отвезти в школу. Ждали только нас. Усевшись у окна, я уже забыл и про свою форму, и про девочку-ромашку – Любу Тришкину.