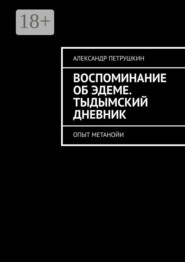По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
100 стихотворений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь смотри – спускаемся в метро,
где от кустов дыхания светло.
«Слух – эхо от дождя, его сетей…»
Слух – эхо от дождя, его сетей
шуршание, гончарный круг, уловка
[о слишком многом речь молчания]. Горит
рыбак, собою управляясь ловко.
Со слепотой своей он говорит
наощупь. Бог ответит мимолётным:
о, Лазарь, Лазарь, выйди и иди,
как речь моя, как эхо там, где тонко
коснётся дождь идущего по дну,
которое не дно, а речи кромка.
«Колокол висит над головой…»
Колокол висит над головой
колокольчика, растущего из стужи:
слева – небо, справа – слово, а внутри —
малое, которому он нужен.
Повисит и ляжет на бок он —
словно тигр, зияющий в синице,
колокольчик песенку поёт —
колоколу дышит в рукавицы.
«…лев живёт в пустыне…»
…лев живёт в пустыне
[скажешь: сгинь
самая чудная из причин
чуда и молитвы – не спеши,
сядем рядом, в лодке посидим,
поседеем, глядя небу в рот,
как пустыня, что во льву живёт,
плачет в льва, чтоб жажду утолить]
и вода в очах у них хрустит.
«Так снег здесь переходит небо…»
Так снег здесь переходит небо,
ступеньками там становясь,
где перевёрнутые воды
растут сквозь грязь
мою, густую и родную,
что стала кожей, речью и
лицом, что левою рукою
я отмываю до крови,
до этих вод, до плеска рыбы,
что поймана на смерти страх,
до слов, которым я поверю,
смолкая в прах.
Так нас ведут поодиночке
за снегом бубенцы из мглы
и протыкают света точки
зрачки зимы,
и кровь течёт по целлофану
когда-то бывшего лица,
и снег идёт навстречу снегу,
в лицо дыша.
«Вот – родина вторая, что с начала…»
Вот – родина вторая, что с начала,
как будто вторник, на меня стучала —
на телеграфе дивное письмо
лежит и дышит в мясо сургучом:
вот родины предел. Начни сначала —
земля твоя, что изнутри всё знала:
я был агент конечно же двойной
лежал межъязыковою войной —
и русский весь язык казался узким
заштопанным, как влажный перегной.
Вот родина – прекрасна в умиранье —
лежит внутри и нефтяной волной
подожжена, как спичкой, дирижаблем —
и небом, что горит передо мной
едва-едва – как Пушкин, в поле жабры
свои оставив февралю, бежит
на Родину, что первая, корягой
из речи чёрной, словно зверь, дрожит —
где мяса письмена из мягких лёгких,
где свет, прошитый светом, в снег лежит
лицом своим – теперь невиноватым —
где всяк Харон по-русски, говорит.
«То отражение, что держишь ты…»
То отражение, что держишь ты,
где от кустов дыхания светло.
«Слух – эхо от дождя, его сетей…»
Слух – эхо от дождя, его сетей
шуршание, гончарный круг, уловка
[о слишком многом речь молчания]. Горит
рыбак, собою управляясь ловко.
Со слепотой своей он говорит
наощупь. Бог ответит мимолётным:
о, Лазарь, Лазарь, выйди и иди,
как речь моя, как эхо там, где тонко
коснётся дождь идущего по дну,
которое не дно, а речи кромка.
«Колокол висит над головой…»
Колокол висит над головой
колокольчика, растущего из стужи:
слева – небо, справа – слово, а внутри —
малое, которому он нужен.
Повисит и ляжет на бок он —
словно тигр, зияющий в синице,
колокольчик песенку поёт —
колоколу дышит в рукавицы.
«…лев живёт в пустыне…»
…лев живёт в пустыне
[скажешь: сгинь
самая чудная из причин
чуда и молитвы – не спеши,
сядем рядом, в лодке посидим,
поседеем, глядя небу в рот,
как пустыня, что во льву живёт,
плачет в льва, чтоб жажду утолить]
и вода в очах у них хрустит.
«Так снег здесь переходит небо…»
Так снег здесь переходит небо,
ступеньками там становясь,
где перевёрнутые воды
растут сквозь грязь
мою, густую и родную,
что стала кожей, речью и
лицом, что левою рукою
я отмываю до крови,
до этих вод, до плеска рыбы,
что поймана на смерти страх,
до слов, которым я поверю,
смолкая в прах.
Так нас ведут поодиночке
за снегом бубенцы из мглы
и протыкают света точки
зрачки зимы,
и кровь течёт по целлофану
когда-то бывшего лица,
и снег идёт навстречу снегу,
в лицо дыша.
«Вот – родина вторая, что с начала…»
Вот – родина вторая, что с начала,
как будто вторник, на меня стучала —
на телеграфе дивное письмо
лежит и дышит в мясо сургучом:
вот родины предел. Начни сначала —
земля твоя, что изнутри всё знала:
я был агент конечно же двойной
лежал межъязыковою войной —
и русский весь язык казался узким
заштопанным, как влажный перегной.
Вот родина – прекрасна в умиранье —
лежит внутри и нефтяной волной
подожжена, как спичкой, дирижаблем —
и небом, что горит передо мной
едва-едва – как Пушкин, в поле жабры
свои оставив февралю, бежит
на Родину, что первая, корягой
из речи чёрной, словно зверь, дрожит —
где мяса письмена из мягких лёгких,
где свет, прошитый светом, в снег лежит
лицом своим – теперь невиноватым —
где всяк Харон по-русски, говорит.
«То отражение, что держишь ты…»
То отражение, что держишь ты,